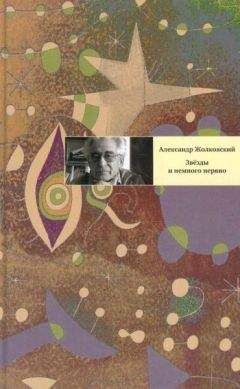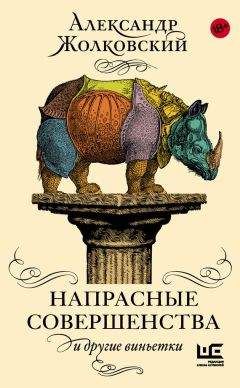(23/X-78)
Сходится, однако, не все. Зимородок – не чайка (а реальный зимородок гнезд вообще не вьет: он кладет яйца в прибрежные ямки), Испания – не Альбион, Эдипу не было дела до Рима, Батюшков отплыл из Англии (в Швецию) не в конце декабря, а в июне (1814 года), да и «Г» – лишнее… Кстати, от этого «Г» зависит толкование имени Гальционы/Алкионы в качестве то ли «морской гончей» (hal-cyon), ошибочное, то ли «охранительницы, стражницы» (alcy-one), правильное; между прочим, мотив «стражи» есть и в «Тени друга», и в реплике Лауры, а также в моем имени, означающем «охранитель мужей» (alexo + andr-) и таким образом отчасти родственном Алкионе.
Что касается разницы между зимородком и чайкой, то у Овидия Кеик и Алкиона превращаются богами просто в неопределенных «птиц». Различие удобно смазывается также употреблением обобщенного единственного числа, одного на двоих: ambo alite mutantur, букв. «оба превращаются в птицу». По другим источникам, оба становятся зимородками. Наконец, согласно третьим, Алкиона обращается в зимородка, а Кеик – в чайку, что соответствует греческому значению его имени (Ceyx = «морская чайка»; но заманчивая этимология чайка ‹ keyk-s, к сожалению, некорректна: оба слова имеют звукоподражательное происхождение, но каждый свое; как сообщает запрошенный по электронной почте Старостин, греческому keyk– соответствует в русском не чайка, а… сова). Союз чайки с зимородком создает серьезные проблемы межвидового скрещивания, каковые, впрочем, лишь контрастно оттеняют преодолевающую все преграды силу любви (ведь и наказаны-то богами Алкиона и Кеик были, по одной из версий, за переоценку своей любви – за то, что называли друг друга Герой и Зевсом), ну и, конечно, могущество богов.
Все это и многое другое обильно комментируется в литературе. И все вроде бы примиряется Пушкиным (инкогнито – так сказать, во сне – явившимся мне невдалеке от Гвадалквивира). «Пушкин, – сообщает комментатор Батюшкова, – заметил об этой элегии: “Прелесть и совершенство – какая гармония”».
Пушкиным же неожиданно гармонизируется и один не вполне разрешенный в нашей с Ямпольским книге о Бабеле вопрос – о названии издательства («Альциона»), которым владел муж героини «Гюи де Мопассана» Бендерский. Бабель, по-видимому, пародировал, с утрированным еврейским налетом ( Аль-Цион = др. – евр. «на Сион, в Иерусалим»), название символистского издательства «Алконост», принадлежавшего еврею Самуилу Алянскому. Это тем более вероятно, что слово алконост – не что иное, как искажение старинного русского речения «алкион есть птица», где алкион – все тот же зимородок. Но, метя в одну алкиону, Бабель вольно или невольно попал в другую. Подобно Бендеру (с его «Чудным мгновеньем»), Бендерский повторил уже бывшее в русской литературной традиции название альманаха, издававшегося в начале 1830-х годов бароном Розеном и названного по имени самой яркой звезды созвездия Плеяд, то есть «другой» Алкионы. В «Альционе» печатались поэты пушкинского круга и сам Пушкин (в частности, там в 1832 году – ровно за сто лет до «Гюи де Мопассана» – появился «Пир во время чумы»), но не Батюшков, к тому времени замолкший. Впрочем, было издательство «Альциона» и в 1910-е годы, так что Бабель, возможно, вообще ничего не придумал, и вся проблема не стоит выеденного яйца.
А возможно, что М. Л. Гаспаров просто намекнул мне, что ездить надо меньше, а читать больше. (Еще в 1988-м он писал мне, что отказался ехать на мандельштамов скую конференцию в Бари, ибо «слишком привык к железному занавесу и потому не ездок».) Или вообще спутал меня со Щегловым, писавшим о «Метаморфозах» всерьез. Упомянул же он как-то в разговоре со мной о неком мифическом «Щегловском». Не этому ли птицевидному гибриду был адресован назонистый зимородок на открытке?
Интертексты умеют много гитик.
Стихи Коржавина я знал со времен «Тарусских страниц», а с ним самим познакомился только в Калифорнии, году в 83-м или 84-м, когда он гостил у Паперных в Санта-Монике. Ольга же подружилась с ним еще раньше, в ходе организованной ею конференции по литературе «третьей волны» в Лос-Анджелесе (1980).
Коржавину было приятно, что я помню наизусть его стихи, и он объявил меня своим парнем; мы даже перешли на «ты». Но с моим структурализмом он примириться не мог. Полагаю, что дело не только в конкретных разногласиях, каковые действительно имеются. (Так, Коржавин вообще не жалует славистов, литературоведов и прочих паразитов на теле литературы; на дух не принимает он и моей любви к поэзии Лимонова: «Чего уж там, персонажи пишут», – припечатал он однажды.) Задним числом я пришел к мысли, что тут работает некая общая стратегия: предъявляя собеседнику тот или иной идейно-политический счет и тем самым вызывая у него чувство вины, Коржавин как бы обращает его в моральное рабство, позволяющее далее потребовать от него, выражаясь словами Остапа Бендера, множество мелких услуг. Поэтому поддержание обвинения носит принципиальный характер, требуя от Коржавина быть постоянно начеку.
– Эма, – говорил я ему, улучив момент, когда он находился в добром расположении духа, – давай я у тебя буду на роли хорошего структуралиста. Знаешь, как у антисемита может быть жена-еврейка, у расиста – друг-негр?
– Нет, – бдительно спохватывался Коржавин. – Хорошего структуралиста быть не может. Человек ты неплохой, но добро и структурализм – две вещи несовместные.
Коржавин уехал, а потом через какое-то время позвонил Ольге с просьбой о помощи. Его жена (тогда главный источник доходов в семье) теряла работу в Гарварде (ее ставка преподавателя языка не допускала продления), и он спрашивал Ольгу, нет ли где-нибудь в американской славистике преподавательского места. На нашей кафедре как раз проходил конкурс на замещение такой должности, и Ольга предложила жене Коржавина подать документы, что и было сделано. Последовал рутинный процесс поиска кандидатов, которым занималась уже не Ольга – завкафедрой, а специально созданный комитет. Но ни один из кандидатов не удовлетворил членов комитета, и никто принят на работу не был, о чем всем и были разосланы корректные письма с комплиментами и сожалениями.
Прошло еще некоторое время, и Вадик Паперный позвонил сказать, что только что говорил по телефону с Коржавиным, который очень сердит на нас с Ольгой, и нам следует немедленно с ним связаться. Он дал бостонский номер Коржавина, мы позвонили и услышали знакомый брюзжащий захлеб:
– Ну что такое, понимаешь? Ну не вышло, ну позвоните, как люди, скажите, не вышло. А это что? Сначала приглашают, а потом? Письмо, понимаешь, на бланке, понимаешь, по-английски… Unfortunately, бля… Разве это по-нашему?…