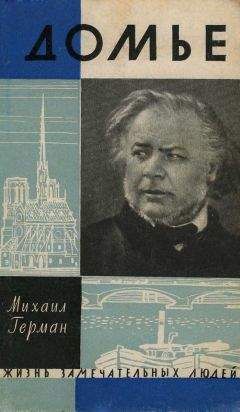Шел 1853 год, первый год империи. Как и следовало ожидать, Бонапарт вскоре после декабрьского переворота провозгласил себя императором. Ныне он именуется Наполеоном III. Бедная Александрин прячет статуэтку Ратапуаля то на чердаке, то в ящике для дров и трепещет при виде жандармского мундира на набережной Анжу. Но сам Домье ни за что на свете не расстался бы со своим героем и не соглашается выкинуть опасную скульптуру, как ни умоляет жена. Ведь Ратапуаль — последняя «настоящая» его работа.
Он снова «карикатурист нравов». Да и чем еще можно заниматься сейчас? Даже борьба буржуазных партий, когда-то создававшая иллюзию бурной политической жизни, сведена теперь к нулю. Где тут думать о серьезной сатире! И вот опять в литографиях Домье вереница обывателей являет зрителям свой неприглядный образ.
Буржуа, наконец, обрели долгожданный покой: никто не грозит их доходам и домам, бунтовщики больше не смеют посягать на священные права собственности. Рабочие не скоро оправятся после недавних расстрелов, их главари за надежными решетками.
Буржуа чувствуют себя хозяевами Парижа. Город кажется веселым, безмятежным и похорошевшим. Император не жалел денег на устройство празднеств и зрелищ, чтобы привлечь симпатии парижан. Прокладывались новые улицы и бульвары. Они разрезали старый и тесный город широкими полосами асфальта, облегчая движение экипажей, а в случае необходимости — и артиллерийских батарей. Наполеон III, памятуя уроки революции, решил избавиться от кривых, узких переулков, где так удобно строить баррикады. К тому же переустройство Парижа занимало тысячи рабочих рук, имевших опасную склонность тянуться к оружию, и открывало невиданные возможности для спекуляций.
Домье подумал, что Роберу Макэру пришлось бы снять шляпу перед своими наследниками. Спекуляции земельными участками, где намечалась прокладка новых улиц, приносили миллионные барыши. Земли, дома перепродавались по нескольку раз. Наступало царство нуворишей, финансовых воротил, царство гигантских капиталов, перед чьим могуществом меркла даже императорская власть.
Для Домье новая эпоха была чужой и враждебной. Обманчивый блеск всеевропейской столицы, какой начинал становиться Париж, не мог изгладить из памяти кровавые сражения и несбывшиеся надежды. Двадцать пять лет Домье ощущал себя «в бою», он уже настоящий «ветеран карикатуры». Сражался он без устали, но выиграл ли он бой? И что следует называть победой? Быть может, сказать людям правду — уже победа искусства?..
Размышления Домье были прерваны восторженными криками, доносившимися издалека, со стороны Триумфальной арки. Буржуа подбрасывали в воздух шляпы, дамы размахивали платками. Экипажи поспешно сворачивали к тротуарам, освобождая середину проспекта. От площади Этуаль спускалась кавалькада: гвардейцы с обнаженными палашами скакали впереди, дальше колыхались разноцветные плюмажи, блестели золоченые кузова придворных карет. Император возвращался с прогулки в Тюильри,
Домье резко встал. Он взял под руки жену и мать и почти силой увлек их в боковую аллею. Несмотря на возражения Александрин, не понимавшей, почему ее отрывают от столь редкого зрелища, Домье не остановился, пока не дошел до поворота, откуда уже нельзя было видеть проспект.
Александрин никогда не видела на лице своего спокойного мужа такой желчной гримасы.
— Нет, — сказал Домье, ни к кому не обращаясь, и, сняв шляпу, вытер покрывшийся испариной лоб. — Нет! Я никогда его не видел и не хочу видеть этого страшного человека.
Домье возвратился домой в отвратительном настроении. Ему был ненавистен Париж, рукоплещущий убийце. Дома, на Сен-Луи, он видел людей, далеких от верноподданнических чувств, и усталые прачки, стучавшие вальками на берегу Сены, были ему во сто крат милее, чем нарядная толпа Елисейских полей. Решительно он стареет — раньше он не знал таких приступов мизантропии.
Отказавшись от обеда, Домье поднялся в мастерскую. С неудовольствием отвел глаза от ожидающих его камней. Все труднее «тащить тачку», иногда литографии делаются непосильным грузом. Он опустился на кушетку в углу и закрыл глаза — они теперь быстро утомлялись от яркого света.
На днях в мастерскую заходил инспектор из управления искусств и любопытствовал, что нового может показать ему Домье. Домье не показал ничего. Он мало писал, литографии поглощали почти все время, а прежняя энергия исчезала. Несколько картин, выставленных в последних салонах, не принесли ему большой славы. После «Мельника» Домье показал еще две работы, тоже навеянные Рубенсом: картину «Нимфа, преследуемая сатиром» и большой рисунок углем, карандашом и гуашью «Пьяный Силен». Кроме этих вещей, в салоне побывал только маленький эскиз «Дон-Кихот». Как и прежде, он выставлял только те картины, в которые вкладывал меньше всего личного и спорного, он решался говорить со зрителями лишь на привычном для них языке.
Домье вытащил запыленный холст. «Восстание» — словно летящая фигура юноши, красный флаг. Кто выставит сейчас такую картину? Она принадлежит прошлому и, наверно, будущему. Если не верить в это, во что же тогда верить?
Вот еще один холст, небольшой, с метр высотой. Домье писал его, вспоминая парижан, которых видел на баррикадах. Здесь отдельные люди уже не растворялись в движении толпы, главное было в лицах, изображенных крупно и резко. Седой рабочий, его жена и двое детей: девушка и мальчик. Сзади дымное небо, две-три фигуры вдали, и больше ничего.
Главный герой картины — старый рабочий; его спокойное лицо вылеплено сильными размашистыми мазками и очерчено черным контуром. Эти черные, такие необычные для живописи штрихи сообщают картине особенную напряженность: как будто линии рисунка проступили сквозь краски, внеся в полотно жесткую определенность гравюры. Конечно, этих контуров не увидишь в жизни, но они делают картину острее, выразительнее, а значит, не спорят с правдой.
В картине незримо присутствует сражение: в кровавых отблесках далеких пожаров на лицах, в суровом и взволнованном молчании людей.
Да, работа была хороша — Домье это ясно видел: вспышки ярких тревожных тонов, волевые живые лица. В эти образы он вложил свое представление о настоящих людях, тех, ради которых стоило жить, работать и верить в человека. И все же картина осталась в мастерской, как и «Восстание» и много других.
Домье по-прежнему сомневался в себе. Слишком велик был разрыв между известностью, сложившимся мастерством Домье-рисовальщика и робкими опытами Домье-живописца. Слишком необычен, резок, нов был язык его живописи. И, кроме того, — пора уже признаться себе в этом — он, видимо, слишком стар, чтобы начинать завоевывать себе место в живописи. Всю жизнь его искусство смеялось над людьми, и в глубине души он боялся смеха над своим искусством. Несносное спокойствие и застенчивость оборачивались своей худшей стороной: они лишали художника твердости.