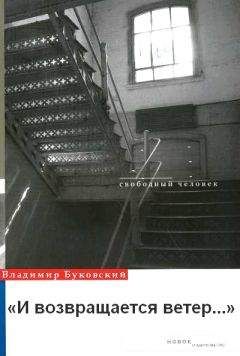Когда я его прижал — покраснел, стал оправдываться, уверял, что ничего плохого говорить обо мне не собирался. Долго я его стыдил потом:
— Как же так получается, Иван Иваныч? На фронте воевал, ногу потерял — там ведь небось страшнее было. Не ожидал я, чтоб фронтовик и на такую мерзость согласился — на сокамерников доносить.
Он чуть не в слезы:
— Видишь, — говорит, — никогда бы не подумал, что могу на такое пойти. Здоровье проклятое, не выживу в лагере. А у меня дети. Ради них только и согласился. Старший парнишка в этом году в институт поступил. Грозили выгнать, если не соглашусь.
Действительно, видно было, что ему стыдно. Исполнял он все, что я от него требовал, очень старательно, как школьник. Работал не за страх, а за совесть, а когда должны были уже нас разводить по разным камерам, взмолился:
— Выручи! Я боюсь отказаться, выгонят парня из института, да и меня заморят. Ты лучше знаешь, как сделать, чтобы меня в лагерь отправили, — не смогу я здесь!
Обычно я никогда не открывал, что разоблачил их агентов, — не выгодно мне было, чтоб считали меня подозрительным. Лучше пусть думают — простодушный, доверчивый. Да и вся работа, что мы с ним проделали, шла насмарку. Но тут пожалел старика: написал заявление Андропову и закрытую жалобу прокурору. Его сразу забрали, и через неделю я точно установил; нет его больше в Лефортове. Даст Бог, выживет в лагере.
Вскоре после него встретил я самого хитрого камерного агента в своей жизни. Мужик лет сорока, здоровенный, энергичный, в прошлом офицер, десантник. За какую-то драку его из армии выгнали, и он работал вольнонаемным на Колыме — добывал золото. За это золото и сел. В отпуск ездил в Москву и продавал его, пока не попался. Под следствием сидел в Бутырках, дали ему пять лет. Должны бы больше, да он ухитрился доказать, что золото не краденое, не с государственного прииска, а сам, дескать, нашел самородок. Говорил, что уже был в лагере, как вдруг этапировали его в Москву: будто бы вскрылись новые эпизоды, и грозит ему теперь пятнадцать лет, а то и вышка. Мужик очень бывалый, и никак я его поймать не мог, никакие мои излюбленные приемы не действовали. Только Яшка-парикмахер при нем точно воды в рот набрал.
Я было по привычке ему: «Ну, как, Яша, похмелился с утра?»
А он губы поджал, смотрит в сторону: «Кому Яша, а кому Яков Митрич — гражданин начальник…»
Самый скверный признак…
Фамилия этого хитрого наседки была Грицай. С Украины родом, из города Галича. И с самого начала он себя так поставил, будто это он меня подозревает. А раз так, то, естественно, я уж не должен был настораживаться — по его расчетам. Игрой его я мог только восхищаться и так его и не поймал, хоть на сто процентов был уверен, что он наседка. Просидели мы с ним аж до самой моей отправки во Владимир. Когда он пришел, следствие уже фактически кончилось. Но была у КГБ надежда, что после суда я стану разговорчивей и неосторожней. Так часто бывает с людьми: дескать, терять уже нечего, все в прошлом. Да еще интересовало их, что я готовлю к суду. Я, конечно, виду не показывал, что разгадал его, — напротив, был с ним душа нараспашку, лучший друг и таким образом многое через него все-таки сделал.
Очень его интересовало, почему я уверен, что все происходящее в суде станет известно за границей. Через кого — через родственников, что ли?
— Да ты что, — смеялся я, — какие родственники? Они у меня глупые и не в курсе дела. Весь суд просидят, и дай Бог, если поймут, сколько мне лет дали. Бабы — что с них взять? А вот погляди, КГБ перемудрил и вызвал на суд свидетелями двух иностранных корреспондентов. — Сработало как по писаному: мать с сестрой пустили на суд, а этих двух свидетелей не пустили, хоть сами же и вызывали. И еще несколько таких вот штучек я ему все-таки протолкал.
Перед уходом из камеры, незадолго до моего отъезда во Владимир, он объявил, что дело его закрыли, не смогли ему пришить новых эпизодов, опять должны забрать его на этап. Действительно, через пару дней его забрали, но, выводя из дверей, повели не к выходу, а в глубь тюрьмы, в другую камеру. Сплоховало начальство, да, видимо, считали и несущественным теперь: все равно я уезжал. А через год, когда привезли меня опять, по делу Якира, случайно узнал я продолжение его истории.
В это время шел большой процесс алмазников, больше сорока человек по делу, и вся тюрьма была ими забита, почти в каждой камере сидел кто-нибудь из них. На суде они встречались и могли перекинуться словцом в перерыве. Практически вся тюрьма оказалась связана. Я, разумеется, стал через них узнавать, где кто сидит из наших, и вдруг наткнулся на Грицая. Он все еще сидел — и все с той же легендой. Оказалось, что и алмазники почти все его знают, почти все с ним пересидели и были от него в восторге.
— Во мужик! — говорили они. — С такого дела соскочил. Верный вышак! Свидетелей всех запугал и улизнул. Теперь дело закрыли, опять в лагерь пойдет добивать свой пятерик.
Когда же я объяснил, что он наседка, долго не хотели верить — уж больно сильное на них произвел впечатление. Но никак не могло выйти по его легенде, чтобы он и в 71-м году оказался в Лефортове. Волей-неволей пришлось им со мной согласиться.
Дело алмазников было в то время самым крупным, и не удивительно, что Грицая сажали с ними. В тюрьме оказался весь московский алмазный завод: из 50 человек, работавших там, — 48 были арестованы за хищение алмазов. Да еще сколько покупщиков выловили. Оказывается, уже лет пять КГБ отлично знал об этом хищении, но никого не трогал. Интересовался КГБ, к кому эти камешки идут, кто покупает да куда прячет. И периодически выгребал эти запасы. Так бы, может, и по сей день стриг КГБ этих алмазных овечек — работа не пыльная. Но вот приехал на завод Косыгин, сфотографировался с передовиками производства, с мастерами, чем-то их наградил, тут-то КГБ и зацапал срочно — нужно же доказать свою полезность, показать, что без них и шагу ступить нельзя. Политический расчет, как обычно, возобладал над экономическим, и возникло гигантское «дело алмазников» — завод же остановился.
Методы и задачи КГБ мало изменились со сталинских времен, только если тогда им нужны были повсюду враги, заговорщики, чтобы запугивать народ, то теперь нужно засилье жуликов и расхитителей. Разница лишь в том, что расхитители действительно всюду и изобретать их не надо. Дух предпринимательства неистребим в человеке. Тот же Клемперт рассказывал мне, как он начал карьеру подпольного миллионера.
— Жалко, — говорил он, — добра. Все равно пропадает, никому не нужно. Начал я с того, что стал использовать для левой продукции отходы, которые все равно выбрасывали. Потом усовершенствовали оборудование, технологию, производительность повысилась, а прибыль стали делить между собой — с этого-то все и началось. Потом оказалось, что мы не одни такие, что весь хозяйственный мир работает так же.