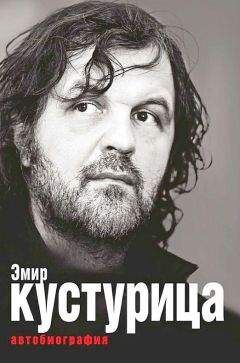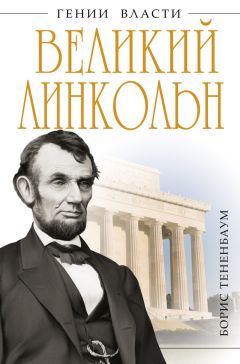Появление Доктора Карайлича[53] вписывалось в логическую последовательность европейского дивертисмента, каким его ввели в наш темный вилайет австро-венгры со своими духовыми оркестрами и капельмейстерами, а также потомственными цирковыми акробатами. Нет необходимости исследовать его корни. Подобно всем творческим личностям, Карайлич прибыл из ниоткуда, с некой летающей трапеции, и любой вопрос о его происхождении меркнул на фоне проявляемого им артистического мужества. Он был лучшим представителем идеи панк-рока. Карайлич носил свитер, который связала ему мать, и презирал притворство. Он применял к футбольным теориям свои собственные философские схемы, что было для него своеобразной гимнастикой ума, которую он переводил на популярный язык. Он читал книги, упорно играл на тотализаторе и делал нереальные ставки на победы ФК «Железникар». Тогда как было очевидно, что его любимый клуб не имел никаких шансов на триумф.
* * *
В 1986 году на концерте группы «No Smoking Orchestra» в хорватской Риеке Доктор Карайлич заявил со сцены: «Маршал сдох». Это вызвало всеобщее замешательство. Одни утверждали, что он имел в виду усилитель марки «Маршал», но другие ни на секунду не усомнились, что он говорил о маршале Тито. Такое непочтительное отношение к Тито шокировало большинство наших сограждан. Самым сложным для них было принять мысль о том, что Тито был действительно мертв. Эта провокация Доктора Карайлича осталась в памяти югославов, стремящихся к свободе, как смелая шутка на тему тотемной сущности товарища Тито. Но очень быстро выяснилось, что играть со стереотипами на телевидении и в жизни было не одно и то же.
Когда Карайлич свернул на улицу Сеноина, направляясь к моему дому, чтобы обсудить творческие и политические проблемы, он не знал, что простая прогулка по городу заставит его прочувствовать всю значимость своего политического преступления. В газетах и на телевидении уделили совсем мало внимания инциденту в Риеке, но при этом вынесли дело на улицу, чтобы боснийский народ сам наказал злодея. Доктор Карайлич появился в моей квартире, прерывисто дыша, и показал мне рассеченную бровь над правым глазом. На улице на него напали несколько человек и попытались свалить на землю, обрушив град ударов. Пока они избивали его, один из них бросил:
— Если Тито тебе не нравится, собирай свои вещи и уматывай в Белград, мать твою так-то!
Их спугнули громкие крики прохожих, прогуливавшихся по улице Тито, и они не смогли уложить Карайлича на асфальт. Вне себя от гнева, я бросился на улицу в одних носках, чтобы проучить подонков, но, разумеется, их уже и след простыл. Нам оставалось лишь строить предположения: действовали ли они по собственной инициативе или же их организовали иностранные спецслужбы, что в Боснии было обычной практикой? Если ты впадал в немилость у политических властей, как правило, следовала ответная реакция «улицы» — на дороге с односторонним движением ты мог вдруг оказаться перед грузовиком, едущим в запрещенном направлении и пытающимся тебя раздавить. Именно это произошло с поэтом Райко Петровым-Ного. А чего еще можно было ожидать от наших сограждан? Когда писатель Меша Селимович стал вызывать подозрение у Бранко Микулича, мало кто осмеливался здороваться с ним на улице. Лишь доктор Лагумджия, глава Академии драматических искусств, продолжала храбро шагать под руку с писателем по улицам Сараева. Даже лучшие друзья Селимовича отворачивались и переходили на другую сторону. А в отеле «Европа» все прятались за развернутыми газетами или хватали свои пальто и скрывались на соседних улицах.
* * *
Стрибор появился на свет, когда я еще тащил за собой груз своего прошлого в Горице — этой бедной, но притягательной атмосфере, где я провел свое детство в поисках ответов на важные экзистенциальные вопросы, которые позднее перевел на язык искусства. Эти трудные времена были увенчаны высокими наградами на международных кинофестивалях. И вот — о чудо! — первые наблюдения Стрибора и его первые фразы затрагивали те же самые вопросы. Отсюда его беспокойство за нашего пса Пикси и страх, что его может съесть «Золотой лев» после победы «Долли Белл» в Венеции.
* * *
Его сестра Дуня появилась на свет под звуки группы «The Clash» и в клубах сигаретного дыма в нашей квартире в доме номер 14 по улице Сеноина. В ту пору мы могли до рассвета вести нелепые споры, пытаясь выяснить, какая зажигалка лучше: «Ронсон» или «Дюпон», учитывая, что первая пользовалась большим спросом на рынке. В другой раз мы дождались рассвета, успешно расшифровывая оперу Уилсона «Эйнштейн на пляже». Это было время, когда наше сознание занимали два основных вопроса: политическая нищета Сараева, последовавшая за крушением титоизма, и надежда на лучшее будущее. Все это подкреплялось мощью музыки «The Clash» и эксцентричной и такой же популярной панк-культурой восьмидесятых годов, которые встали преградой на пути зарождающегося монстра канала MTV и его «нечистот», начинающих изливаться с маленького экрана, грозя утопить нас в своем музыкальном дерьме.
* * *
Вопрос, отражающий мысли миллионов людей, впервые сформулированный Джо Страммером в песне «Should I stay or should I go»[54] разрешился моим отъездом из Сараева в Соединенные Штаты. Это решение не имело под собой никакой политической подоплеки, просто мой родной город больше не соответствовал одежде, которую я любил носить, и перестал котироваться на финансовой шкале моих будущих творческих работ. Я принял приглашение Милоша Формана заменить его в Колумбийском университете и во второй раз в своей жизни — но на этот раз навсегда — покинул Сараево.
Стоял 1988 год, и, пока мы готовились к отъезду из дома номер 14 по улице Сеноина, в окружении печальных лиц наших друзей и родителей, по телевидению передавали прямой репортаж о «йогуртовой революции»: тот самый момент, когда Воеводина потеряла свою автономию и по всей Югославии начала растекаться грязь.
До свидания, любимая страна
Все пути к большому миру при отъезде из Сараева, так же как и все возвращения в родной город, неминуемо проходили через Белград и квартиру тети Бибы. Так же было и на этот раз, когда Дуня, Стрибор и мы с Майей отправлялись в Соединенные Штаты. Дорога в Нью-Йорк вела через дом номер 6 на площади Теразие. Для меня это означало настоящий праздник. Я был счастлив вновь увидеть тетю Бибу, бодрость и прозорливость которой наполнили мой период становления решимостью и силой, похожими на свежий ветер, внезапно оживляющий слабое пламя костра и позволяющий гореть ему с большим задором. Она была наставницей моего отца, но также одним из столпов моего собственного развития. К сожалению, на момент моего отъезда в Нью-Йорк, где я собирался преподавать в Колумбийском университете, взгляд моей тети был уже не таким пронзительным, а сияние, исходившее от нее, где бы она ни находилась, с годами потускнело. Неизбежная грусть, вызываемая старением, у нее усиливалась дополнительным разочарованием: отношения с ее мужем Любомиром Райнвайном достигли крайней степени конфликта. Он подцепил где-то юную художницу, младше его на тридцать лет, некую Гавранкапетанович, и теперь мечтал лишь о том, как бы получить максимум денег от своей совместной жизни с Бибой, чтобы перебраться в Герцег-Нови. Единственным способом раздобыть нужную сумму для этого журналиста, недавно получившего звание профессора, была продажа квартиры на площади Теразие. Моя тетя отказывалась наотрез, ссылаясь на то, что не может жить без культурных мероприятий и учреждений, которые обогащают ее жизнь и находятся, по ее собственному выражению, прямо за дверью.