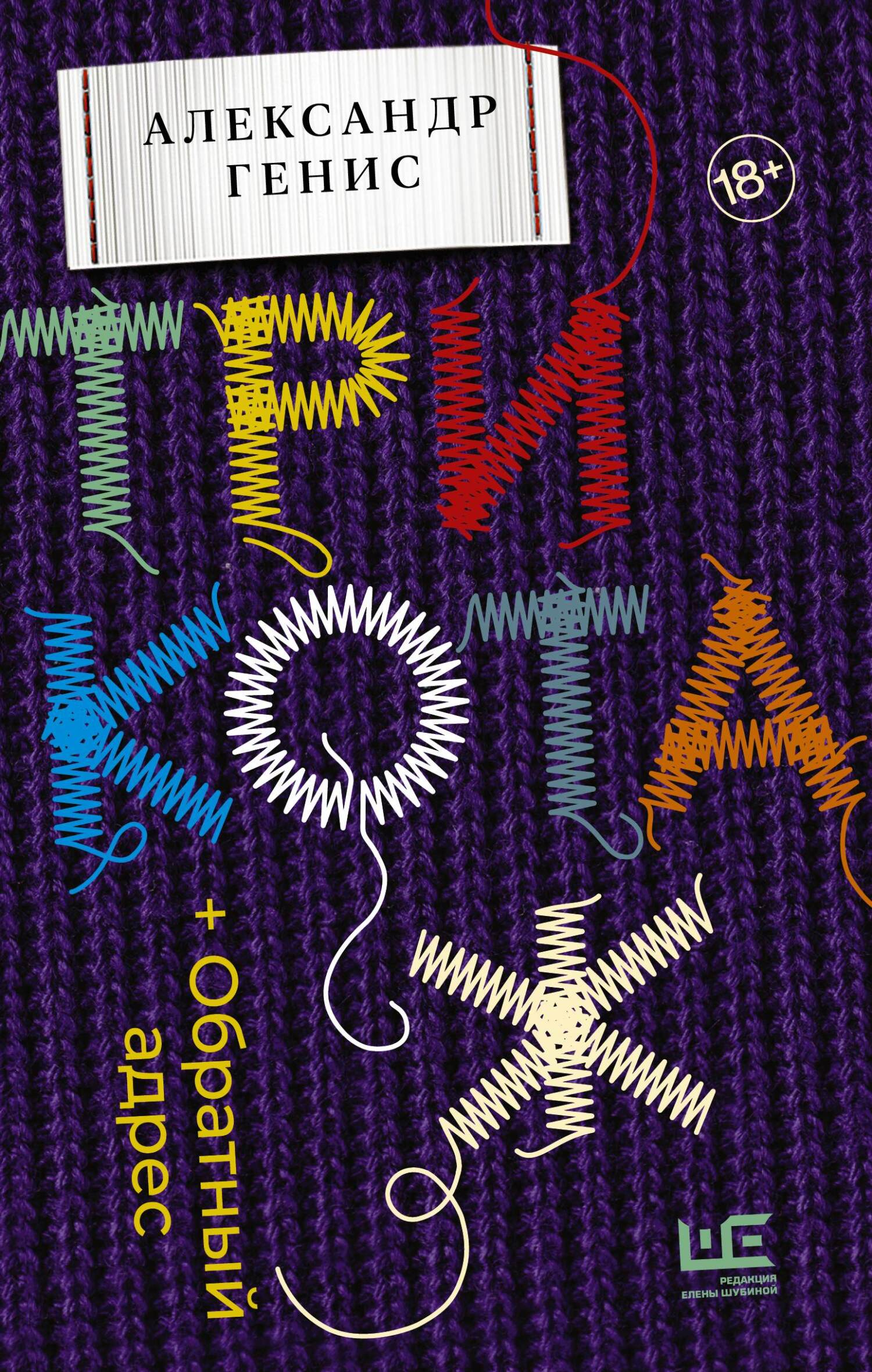к отъезду, либо те, кому было нечего терять. Часто это были одни и те же люди.
Оставив загашник на дорогу, мы вложили все оставшиеся деньги в водку. Не удивительно, что я ничего не запомнил, кроме спящего у входных дверей Лёвы, в обычные, а не праздничные дни торговавшего раритетами в букинистическом магазине. Присыпанный перьями из разодранной в вакханальном экстазе подушки, он, объединяя античную мифологию с христианской, походил на усопшего ангела.
На перрон нас провожала страшно помятая, будто с картин Босха, толпа. Мы шатались, пассажиры шарахались. Когда мы ввели в купе покорившуюся судьбе тетю Сарру, погрузили семнадцать чемоданов, Вайля и марксиста Зяму, провожавших нас до Бреста, я понял, что не успел сделать главного: в последний раз поваляться на диване с книжкой и сказать бабушке то, что всю жизнь хотел.
2
Поезд дальнего следования отчаливал так плавно, будто считал себя кораблем. За окном неторопливо уплывали в прошлое не успевшие опохмелиться друзья и близкие. Из виду навсегда исчезли родные шпили. Не зная, как к этому отнестись, мы отправились глушить преждевременную тоску. В вагоне-ресторане уютно бряцал судок с солянкой, но водки все равно не хватило. В Минск, где мне не довелось до тех пор бывать, поезд приходил в пять утра и стоял пятнадцать минут, но я все равно нашел у кого купить прощальные пол-литра. Я все еще был на родной земле, которая кончалась в Бресте. На границе мы наконец расстались с друзьями.
– Ариведерчи, – легкомысленно бросил Вайль, рассчитывавший нагнать нас в Риме.
Растроганный Зяма меня обнял и попросил не очернять родину.
– Думаю, она справится без меня, – высокомерно ответил я и шагнул в будущее, открыв матовую дверь таможни.
За оцинкованными, как в морге, столами чиновники лениво потрошили багаж лысого еврея. Юля и нервничая, он рассказывал им анекдоты про Рабиновича. Таможенники смеялись, но не теряли бдительности, встряхивая носки, перелистывая страницы и ощупывая швы.
Когда – и очень нескоро – дело дошло до нас, таможня начала с книг и бумаг. Заметив “Ивана Денисовича” в домашнем переплете, усатый дядька в зеленой форме посуровел.
– Солженицын, – сухо объяснил он, – к провозу запрещен.
– На Запад?
– Куда угодно.
Вслед за Александром Исаевичем в кучу запретного угодили домашний фотоальбом, дипломная работа “Булгаков и мениппея”, которой я надеялся поразить просвещенную часть Запада, и классный дневник с замечанием моей первой и до сих пор не прощенной учительницы Ираиды Васильевны. Время шло, досмотр не кончался, венский поезд уходил, а мы все еще не могли проститься с отчизной.
– Ничего страшного, – объявил старшой, – отправитесь следующим.
– В Варшаву?
– Один хрен.
Не считавшаяся полноценной заграницей Польша была паллиативом, но располагалась на полпути.
Попав наконец в поезд и оставшись без попутчиков, мы очумело озирались и, боясь пропустить польскую столицу, выскочили на остановку раньше. Осознав по беспроглядной тьме Варшаву-товарную, мы влезли обратно на ходу, пихая в спину тетю Сарру. Она не роптала. С момента отъезда к ней частично вернулся разум. Приняв эмиграцию за эвакуацию, она решила, что мы не едем к немцам, а бежим от них, притворяясь, как это было с ней в прошлый раз, цыганами.
За цыган нас и приняли на столичном вокзале. Больше всего мы боялись остаться без билета и застрять на территории Варшавского пакта. Дожидаясь утра, мы раскинули табор возле еще закрытой кассы. Пока Сарра завтракала сваренными про запас крутыми яйцами и сторожила семнадцать чемоданов, я отправился осматривать достопримечательности, не рискуя удаляться от вокзала дальше первого магазина. Мне не удалось узнать, чем он торговал, ибо витрину украшала прозрачная ваза с тысячью гвоздик: половина – белых, половина – красных. Сняв на всякий случай кепку, я отправился обратно, оставив Польшу на потом.
Когда касса открылась, мы были первыми и единственными покупателями. Буднично купив билеты на Запад и не удостоившись взгляда таможенников, знавших, что после русского шмона им нечего делать, мы сели в поезд и отправились в путь, считая границы. В Чехословакии мы купили через окно горячую сосиску – здесь еще брали наши последние рубли. Только к ночи поезд пересек австрийскую границу. Аграрный пейзаж не изменился, но я все равно высунулся в окно и втянул в себя воздух. Пахло навозом.
В Вену мы прибыли глухой ночью в состоянии полной эйфории. Стоя на перроне в чужом городе незнакомой страны с семнадцатью чемоданами и полоумной тетей на руках, мы смеялись и обнимались, пока не пришел полицейский.
“О, полицай!” – закричали мы и обняли его тоже. В участке все быстро выяснилось, и нас отправили на такси в пансион Zum Türken, где собирали других предателей. От переживаний жена заговорила с шофером на безупречном немецком, который с прохладцей учила в школе. Пораженный произношением венский таксист растрогался и решил прийти ей на помощь:
– Фройляйн, я же вижу, что вы – волжская немка. У нас, на свободе, вам больше незачем скрывать происхождение. Бросьте этих евреев, – сказал он, ткнув пальцем на заднее сиденье, – и живите на всю катушку.
3
Вернувшись в Ригу через треть века, я обнаружил, что мой квартал изменился лицом. Магазин модных платьев, который безо всяких на то оснований назывался “Лотосом”, переродился в бутик. Гастроном, где по ночам второгодник Максимов с завидной прибылью торговал водкой, больше не держит спиртного. В книжном магазине литературу и детективы продавали в разных отделах, второй, естественно, больше. На месте пышечной, но все в той же декоративной избе расположился ночной бар “Аризона”. Проходной двор вырос в молл. Магазин с хомутами торгует эротическим инвентарем. Пункт по приему утильсырья, куда я в пионерском раже таскал макулатуру, стал киоском и продавал то, что раньше покупал. В бомбоубежище устроили тир. “Палладиум” обветшал, но там всё еще показывали американские фильмы. Исчезли очереди у водочного магазина, уставленного “Рижским бальзамом” (“Неужели люди пьют его добровольно?” – спросил меня американский приятель). Нет больше “Приема стеклотары”, куда мы ходили через день, а по понедельникам дважды.
Но дом остался. Разлука его преобразила, хотя на первый взгляд ничего не изменилось. Серый и незатейливый, он по-прежнему лишен тех архитектурных излишеств, которые делают Ригу неотразимой. Здесь не было ни средневековых башенок, ни завитушек купеческого барокко, ни рубленых девизов протестантской этики (Labor Omnia Vincit), ни самодельной мифологии ар-нуво, ни стилизаций кирпичной готики, ни социалистических звезд, снопов и рогов изобилия. Собственно, на фасаде вообще ничего не было, кроме цемента и окон без наличников. Однако именно это обстоятельство и делало его минималистским памятником функционального зодчества, провозгласившего орнамент преступлением. Теперь мой дом красовался на