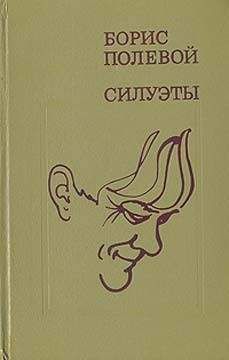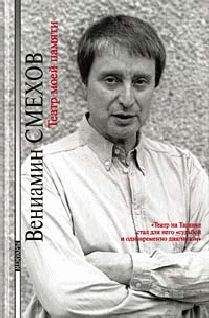В те дни его Куба была бесконечна далеко и от него и от нас. Нам же она казалась просто призрачным островом. Я представлял ее лишь по смутным воспоминаниям из школьных учебников географии да по четверостишью Маяковского:
Если Гавану окинуть мигом —
Рай страна,
страна что надо.
Под пальмой на ножке стоит фламинго,
Цветет коларио по всей Ведадо.
И поэма Маяковского «Блек энд уайт» и газетная хроника о свирепствах диктатуры на Кубе заставляли нас в ответ на щедрые приглашения Гильена напоминать ему о действительности:
— А Батиста?
Переиначивая известное выражение Виктора Гюго, Гильен, сверкая своими черными глазами, неизменно отвечал:
— Батисты рождаются и умирают, а народ живет, народ вечен. — И от себя добавлял: — А диктаторам иногда дают коленкой под зад.
И он оказался прав, Николас Гильен, которого его чилийский друг Пабло Неруда назвал в своей статье менестрелем Латинской Америки. В конце концов мы смогли принять его приглашение…
Встретились с ним в Гаване в первые месяцы победы кубинской революции. Диктатору Батиста действительно дали коленкой под зад. Народное правительство Фиделя Кастро деятельно начинало строительство новой жизни.
Гильен оказался таким же неугомонным, жизнерадостным, каким мы его привыкли видеть. Он с головой, больше чем когда-либо, был погружен в поэзию и в то же время сверх всякой меры обременен общественно-организационными делами.
— Нужно произвести целое исследование, чтобы перечислить все его должности, — шутил Хуан Маринельо, его соавтор по корреспонденциям из сражающейся Испании, а в те дни уже ректор Гаванского университета.
В шутке была правда. Гильен писал стихи и прозу, в большой газете «Ежедневные новости» он из номера в номер помещал короткие публицистические статьи и в статьях этих как бы вел многодневную задушевную беседу с читателями. Он был председателем Союза писателей и художников. Руководил Движением Сторонников мира на острове. Был членом Всемирного Совета Мира. Он…
Нет, Маринельо был прав: просто невозможно перечислить все посты, которые он занимает. Подозреваю, что и ему самому сделать это не под силу.
— Как живешь, Николас?
— Хорошо живу. Всюду и всегда опаздываю, — жизнерадостно заявил он, действительно изрядно опоздав на писательскую встречу, которую он сам же организовал и на которой он должен был председательствовать.
Вечером, точнее ночью, он пригласил нас в «самый роскошный ресторан Гаваны». В этом городе, действительно изобилующем роскошными отелями, экзотическими ресторанами, этот «самый роскошный» оказался просто… большой подворотней в одном из старых каменных домов на шумной улице. В подворотне были тесно расставлены столики, а кирпичные обшарпанные стены были сплошь оклеены фотографиями знаменитых людей Кубы и иных стран с дружескими надписями, адресованными этой весьма странной точке общественного питания.
Все столики были заняты. Но для Гильена откуда-то из кухни приволокли еще один колченогий, который тут же, однако, покрыли белоснежной накрахмаленной скатертью.
При появлении Гильена по всему этому своеобразному «залу» будто ветер по лесу прошелестел. Я не знаю языка, но без труда угадал: кто?.. который?.. где?.. И тотчас же у колченогого стола выстроилась очередь любителей автографов. Потом будто из земли возникли два пожилых африканца с гитарами и какими-то очень звучными погремушками и под аккомпанемент этих инструментов хриплоголосый дуэт запел соны Гильена. За столиками поддержали. Поддержали дружно. Мотив и тексты были, по-видимому, всем известны, и получился очень стройный, своеобразный хор.
Так ночь и потекла. Гильен добродушно рассыпал автографы на карточках меню, на каких-то клочках бумаги, на полях газет. Я потихоньку потягивал новый для меня напиток с шикарным названием «Куба либре», то есть «Свободная Куба».
Где-то уже глубокой ночью в зал вошла очень красивая женщина в белом свитере и длинной широкой темной юбке, подчеркивающей стройность ее форм. Я сразу узнал здешнюю эстрадную певицу, называвшую себя русским именем Любка. У нее, разумеется, было какое-то свое, кубинское имя, но после того, как она прочитала «Молодую гвардию» Фадеева, она взяла себе артистический псевдоним Любка в честь героини романа Любы Шевцовой.
За день до этого произошел такой случай. С Хуаном Маринельо мы пошли в ночное кабаре, где выступление этой артистки было, как говорили, гвоздем программы. Выступала она в костюме праматери Евы, дополненном лишь очень скромными, но совершенно уже необходимыми деталями. Она исполняла вихревой негритянский танец, исполняла так здорово, что, несмотря на ее оригинальный костюм, точнее на отсутствие костюма, ее встречали как-то по-дружески тепло. Публика шумела, стучала по столам, долго не отпускала ее со сцены, и она плясала снова и снова, плясала, щедро улыбаясь, сама увлеченная своим танцем не меньше, чем зрители. А на следующий день я пошел в народный банк обменять чек на валюту, и в дверях мне решительно преградил путь стройный мальчик с автоматом и большим пистолетом в деревянной кобуре. Он был в форме милисианос[5]. Красивое лицо этого мальчика показалось почему-то очень знакомым, и вдруг я узнал в нем… вчерашнюю танцовщицу, именующую себя Любкой.
— Да, это так. Она милисианос. У нас много гусанос[6], трудящиеся Кубы охраняют свое добро. Вечером вы опять сможете увидеть ее на эстраде, — пояснили мне в банке.
Так вот, этот очаровательный милисианос пришел прямо к столику Гильена и, наклонившись, оставил на его лбу жирное карминное пятно.
— Я хочу танцевать для вас, маэстро.
Раздвинули столики, старые африканцы завели какую-то лихую мелодию, и начался тот же бешеный танец, причем развевающаяся юбка то и дело хлестала нас по носам.
Потом танцовщица присела за столик Гильена и отказалась выпить даже «Куба либре»: некогда, ей нужно еще переодеться в форму, взять оружие, она должна выходить на пост. Гильен был растроган, по-отечески похлопал ее по спине.
— Спасибо, ты доставила мне и моему советскому другу большое удовольствие.
— Не благодарите, для меня большая честь танцевать для Николаса Гильена.
Из ресторана Гильен выходил в сопровождении толпы друзей, под аккомпанемент следовавшего за нами «оркестра». Он был растроган и горд. Распростившись с провожатыми, он, явно гордясь любовью своего народа, сказал:
— Это, брат, не какая-то там Нобелевская премия. После того вечера мы не раз встречались с Гильеном и в Гаване, и в Москве, и в других городах мира, вели дружеские разговоры, жестоко спорили, но всегда расставались по-хорошему. Кубинский народ отметил его семидесятилетие. Солидная дата, что там ни говори. Но в памяти моей он навсегда останется таким, каким он выходил тогда из ресторана-подворотни: веселый, задорный, искренне гордящийся столь ярко выраженной народной любовью, своей всенародной славой. И молодым. Да, и молодым.