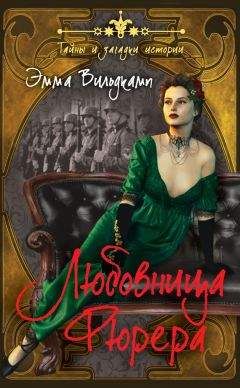Кроме того, оставалась проблема с Руттманом. Рифеншталь восхищалась быстрым и ритмичным стилем его абстрактных и документальных фильмов. Тем не менее отснятые фрагменты сильного эмоционального характера не всегда соотносились друг с другом и не всегда обладали индивидуальным интересом. По-видимому, ей не приходило в голову, что ярко выраженные коммунистические симпатии Руттман также вызывали повышенное любопытство, принимая во внимание, что он не был другом нацистов.
Разумеется, в эти непростые дни он был рад любой работе; а может быть, он просто воспринял это как уникальную возможность создания, летописи необычных событий, комментария, который мог бы пережить даже тысячелетний рейх.
* * *
Рифеншталь по-прежнему была убеждена в том, что фюрер, так или иначе, стоит в стороне от порочных эксцессов своей партии — эксцессов, которые едва ли могли укрыться от ее глаз. Она так никогда и не вступила в партию, и не имела намерений сделать это, будучи не в состоянии примириться с политикой преследования евреев.
Прочитав «Майн кампф» (чем в действительности могли похвастать отнюдь не многие, несмотря на огромные тиражи) и побывав в Нюрнберге, где Гитлер открыто заявлял о своей расовой политике, она по-прежнему была решительно убеждена, что фюрер со временем придет к умеренности в демонстрации силы.
Такое не укладывается в голове, и тем не менее в эту ловушку попадали в ту пору многие — в частности, молодежь, которой, в золотую пору идеализма, дарились надежды и верования, за которые не страшно умереть. «Молодые люди счастливы, — сказала одна немецкая фрау английскому путешественнику Филиппу Гиббсу в 1934 году. — Для них делается все. Они убеждены, что живут в чудесном мире! Они обожают фюрера! Им нравится маршировать с флагами. Они любят спорт и игры. Да, молодежь и вправду счастлива!»
Все же среди широких кругов населения имела место обеспокоенность по поводу слишком открытых милитаристских манифестаций; но в самой Германии мало кто верил, что страна взяла прямой курс на войну. Гитлер постоянно твердил о желаемости мира и в то же время обещал соотечественникам расширение «жизненного пространства» — несовместимость этих двух положений по большей части оставалась без внимания. Широкие круги, конечно, проявляли беспокойство и по поводу отношения властей к католицизму, и по поводу еврейского вопроса, но тема «окончательного решения» этого последнего еще не витала в воздухе.
Кое-кто сожалеет об утраченных свободах, но в глазах большинства плата за снижение страха безработицы и ощущение какого-никакого порядка после стольких лет хаоса не казалась чрезмерной.
Альберт Шпеер писал о том, как он открыл для себя «грубые несуразности» в доктрине партии, но, как и Рифеншталь, был убежден, что они со временем сгладятся. Оглядываясь назад, он сознает, что ему следовало бы тогда вглядеться в «весь аппарат мистификации» и что не сделать это было «само по себе преступлением». Если бы Гитлер объявил до 1933 года, что несколько лет спустя он будет «жечь синагоги, втянет Германию в войну, начнет убивать евреев и своих политических оппонентов, — писал Шпеер, — он мигом потерял бы и меня, и, пожалуй, большинство своих приверженцев, которых он завоевал после 1930 года».
Геббельс, страшившийся инфильтрации в нацистскую партию «буржуазных интеллектуалов», делал все, чтобы Шпеер и другие «сентябристы»[31] не разглядели сквозь рассчитанную дымку мистификации самой зловещей сути нацизма. Путци Ханфштенгель активно заигрывал с Гитлером и его когортой в течение двенадцати лет, очевидно, пребывая в иллюзии, что его влияние сможет цивилизовать их радикальные «грубые несуразности» и нетерпимые манеры — однако оказался не в состоянии составить из многочисленных очевидностей впечатление о зловещем целом вплоть до нюрнбергского шабаша 1933 года.
Но и тогда, находясь на должности пресс-атташе по связям с заграницей, он по-прежнему оставался неотъемлемой частью мистифицирующего процесса — пока не покинул фатерлянд в 1937 году, напуганный развитием событий.
Видимо, поэтому не следует удивляться, что Лени Рифеншталь, с ее весьма отрывочными представлениями о политике, позволяла пене, вскипавшей на гребне «духа времени», нести себя неведомо куда.
* * *
Между тем с фильмом «Долина» все было вовсе не так гладко. В Испании Лени была очарована пейзажем и жаждала приступить к съемкам. Но деньги сочились из Берлина капля за каплей, а снаряжение не прибыло вовсе — равно как и остальные члены киногруппы. Раз так, то проделанная предварительная работа лишалась всякого смысла. Услышав однажды роковым вечером, что все откладывается еще на две недели, она упала в обморок и долее ничего не помнила, пока не очнулась в мадридской больнице.
Для студии это явилось необходимым предлогом, чтобы вовсе отменить проект — и поделить страховые деньги.
Хорошо еще, подумала Лени, что она поручила Руттману «партийный» фильм, хотя ее стало одолевать беспокойство и на этот счет, после того как он навестил ее, выздоравливающую, в Барселоне. Легкомысленно заверив ее, что все под контролем, он тем не менее не мог сказать ничего внятного насчет подробностей и финансов. Только к августу она почувствовала себя достаточно окрепшей, чтобы вернуться в Берлин, куда она ехала в мрачном предчувствии. Над нею по-прежнему нависал фильм о шабаше в Нюрнберге, и снова она желала бы отвертеться от этой миссии.
Как она вскоре выяснила, опасения ее были не напрасны — более того, дела обстояли куда хуже, чем она себе представляла! Снятое Руттманом было — по крайней мере, на ее взгляд — отрывочным и не поддающимся пониманию. Какие-то летящие по улицам газеты с заголовками на первых полосах, кричащими о восхождении нацистской партии. И при всем том он умудрился потратить ни много ни мало треть от всего бюджета фильма.
Вдобавок ее ожидало зловещее письмо от Гесса, выражавшего удивление, что она поручила съемки Руттману, тогда как фюрер желал видеть в работе над картиной только одну ее. Лени была вызвана на ковер для дачи объяснений.
Какой кошмар! Она не в состоянии от него скрываться, и в последнем отчаянном порыве найти избавление от нежелательного заказа немедленно мчится в Нюрнберг, где фюрер инспектировал подготовку к съезду.
Она нашла его в компании архитектора Шпеера, адъютанта Брюкнера и фотографа Хоффманна, размышляющими над планами постановки интригующих парадов. Он был в хорошем расположении духа и отмел с порога ее протесты: «Все, что мне нужно, фройляйн Рифеншталь, — сказал он, — чтобы вы мне пожертвовали шесть дней. Вы так молоды! Разве я много у вас прошу?»