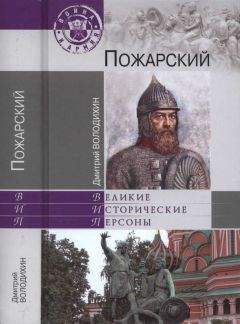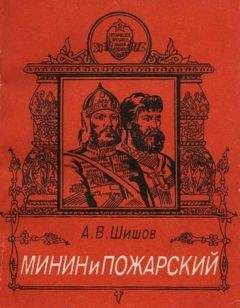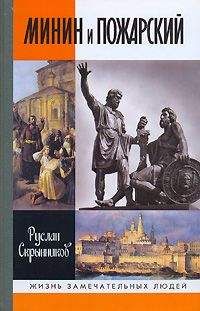В итоге Троицкие власти решились просто отдать казакам в заклад богослужебные предметы и одеяния священников. Предполагалось, что в скором времени обитель святого Сергия выкупит их за тысячу рублей серебром — огромную для начала XVII столетия сумму. Двух серебряных копеечек хватало на суточную норму пропитания…
«Умысливше сице, — пишет Авраамий, — послаша к ним (казакам. —Д. В.) церковнаа сокровищя: ризы, и стихари, и патрахели саженые в закладе в тысечи рублех не на долго время, да к ним же писали со многим молением от Божественых Писаний, чтобы подвиг страданиа своего совершили, от Московского государьства не расходилися и прочая. Они же, приимше писание и прочетше его пред всем войском, слышавше же похвальныя глаголы о службе их и о терпении, и приидошя в разум и в страх Божий и паки возвращают присланныя к ним ризы в дом Живоначальныя Троица, и дву атаманов з грамотами ко архимариту и х келарю и ко всей братии, что им по прошению их вся исполнити. Аще и тмочисленныя беды и скорби приидут, то вся терпети, а не вземше Москвы и врагом крови христианьскиа не отмстивше не отити»[210].
Посовестились казаки. Не стали обирать славнейшую обитель на Руси. Хотя и выломившиеся из общественного уклада, а все же христиане — не решились набивать мошну подобным способом. И за то следует воздать им благодарную память. Буйный народ, но от Христа не отошедший, не церковные тати, не вероотступники.
Знаменитый историк Великой смуты С. Ф. Платонов когда-то сказал прекраснодушные слова: «Хотя в грамотах первое место всегда принадлежало имени Трубецкого, однако на деле Пожарский и Минин были сильнее и влиятельнее родовитого тушинского боярина, так же как ими устроенное земское ополчение было сильнее казачьего табора, наполовину опустевшего. В новом разряде на Трубе совершилось уже полное подчинение подмосковного казачества условиям московской службы. О борьбе с государством мечтала только та часть казачества, которая с Заруцким ушла на верховья Дона».[211] Ах, если бы так! Далеко, очень далеко еще было до подчинения казачества «условиям московской службы»! И не Пожарскому с Трубецким да Мининым предстояло решить эту задачу. Им в лучшем случае удавалось сдерживать неистовую казачью мятежность от больших взрывов.
И, вероятно, легче бы приходилось Минину с Пожарским, если бы темную, усталую, оголодавшую массу казачества не пытались использовать в лукавых затеях люди куда более опытные по части политических интриг.
Так, 5 сентября в полки Трубецкого прибыл старый его знакомый по Тушинскому лагерю, советник Лжедмитрия II Иван Шереметев с братом Василием. Их сопровождала целая группа служилых аристократов с тушинским прошлым. Среди прочих — князь Григорий Шаховской, матерый крамольник и смутогон. Шереметев и его знакомцы со временем превратились в горячих сторонников королевича Владислава: хотели возвести его на русский престол, дали ему присягу… А для успеха Владислава, как претендента на русскую корону, требовалось любыми средствами сохранить польский гарнизон в Кремле. «Гости» подстрекали казаков уйти из-под Москвы, отправиться в Ярославль, на Вологду, «в иные города» и кормиться, «засев» там.
Дмитрию Михайловичу интрига Шереметевых грозила физической расправой — как когда-то случилось с Прокофием Ляпуновым. А ведь еще недавно он спас самого Ивана Шереметева от смерти… Но теперь высокородный Шереметев пренебрег его гостеприимством и отправился в лагерь другого высокородного аристократа — Трубецкого. Здесь он недобрыми речами едва не спровоцировал покушение на своего благодетеля. Что ж, Дмитрий Михайлович продолжал оставаться в глазах Шереметева мелкой сошкой: стольник, всего-навсего стольник… и всего-на-всего из захудалых Пожарских. Не по чину взял! Всякое великое дело от него — не в счет, ибо исходит от маленького человека. Таков был Шереметев. И такого склада люди подожгли Смуту на Москве, поддерживали ее горение долгие годы, а победы земцев восприняли как источник для приобретения личных выгод.
Мало того, что Пожарский оказался в рискованном положении, еще и над всем земским делом нависла опасность. Минин и Пожарский с великими трудами скрепляли северо-восточные регионы России в единое целое. Призыв Шереметева мог закончиться тем, что хрупкое это единство рухнуло бы под напором казачьего нашествия. Разбойничьего похода, слава Богу, не произошло. Да и Пожарский никак не пострадал. Однако под действием злых слов казаки «учинили в полкех грабежи и убийства великие».[212]
Усмиряя непокорство казаков, Дмитрий Михайлович помнил и о другой опасности. Ходкевич потерял обоз, лишился сильного отряда запорожцев, но не расстался с идеей помочь кремлевскому гарнизону. По свидетельствам поляков, гетман сделал еще одну попытку прорваться в центр города: «… Ходкевич не поленился и собрал в других местах провиант для польского гарнизона, находящегося в Крым-городе, подвозя его другим путем. Московиты, заметив это, тотчас же заняли место на реке (Москве), протекавшей по Крым-городу, по которой провозились продукты, расположили сильную охрану и батарею по ее берегам и отрезали доступ в замок глубокими окопами (рвами). Последний (Крым-город) был тесно окружен, так как вход и выход из него сделались невозможными. К осаде приступили 100 тысяч русских. Ходкевич возвращается с несколькими сотнями возов провианта, но с удивлением замечает большую перемену: он видит, что на берегах реки стоит инфантерия, по дороге выстроены орудия, доступ к замку везде отрезан, а 100-тысячное неприятельское войско, защищенное батареями и окопами, несравненно превосходит польские силы. Искренне пожалев о том, что завистничество вождей погубило осажденных, он отступил назад и пошел к Смоленску».[213]
Разумеется, никакого 100-тысячного войска на страже Москвы не стояло. По сведениям русских источников, Пожарский и Трубецкой вдвоем не располагали тогда и вдесятеро меньшей армией. Однако сам гетман, изрядно потрепанный в августовской баталии, лишившийся казачьих отрядов, видевший деморализацию своих бойцов, был в еще более тяжелом положении.
Пожарский, при всех нестроениях в земском воинстве, отлично подготовился к приходу Ходкевича. Разведка донесла ему и Трубецкому, что гетманская армия вновь на подходе. «Они же начали думать, как бы гетмана не пропустить в Москву. И повелели всей рати от Москвы реки до Москвы реки же плести плетни и насыпать землю. И выкопали ров великий, и сами воеводы стояли, переменяясь, день и ночь. Литовские люди, услышав о такой крепости, не пошли с запасами».[214] Новые земляные укрепления и новые артиллерийские батареи, как видно, совершенно отбили у поляков желание попытать счастья в новом прорыве.