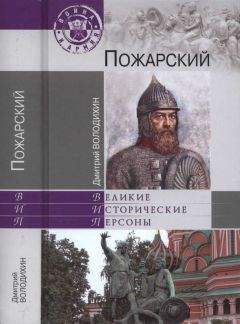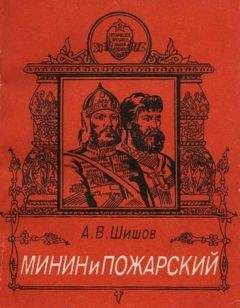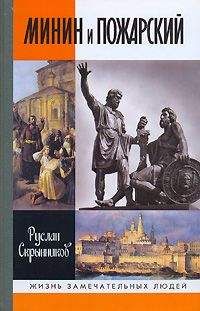Таким образом, осажденные утратили последнюю надежду на вызволение извне. Для них очередная неудача гетмана явилась страшным ударом.
Имеется множество свидетельств о том, на какие страдания обрек себя польский гарнизон.
«Вновь начался голод и до такой степени дошел, что всякую нечисть и запрещенное ели, и друг друга воровски убивали и съедали. И, потеряв силы от голода, многие умерли», — пишет русский современник о поляках[215]. Когда вооруженная борьба прекратилась и ополченцы вошли сначала в Китай-город, а потом в Кремль, они увидели там устрашающие знаки недавнего прошлого. Разрытые могилы, кошачьи скелетики, чаны с засоленной человечиной. Мертвецов бережно хранили, развесив туши по чердакам. Драгоценное мясо закатывали в бочки — кое-кто из осажденных запасался провизией на зиму…
Если бы весь этот кошмар выдумали победители о побежденных!
Нет, всё правда. Причем наиболее достоверные показания исходят от самих поляков, пытавшихся отбиться от русского натиска в Кремле и переживших все ужасы нескольких месяцев страшного голода.
Тот же Будило, — как уже говорилось, офицер кремлевского гарнизона, — свидетельствует о чудовищных обстоятельствах осады. По его словам, «…ни в каких летописях, ни в каких историях нет известий, чтобы кто-либо, сидящий в осаде, терпел такой голод, чтобы был где-либо такой голод, потому что когда настал этот голод и когда не стало трав, корней, мышей, собак, кошек, падали, то осажденные съели пленных, съели умершие тела, вырывая их из земли; пехота сама себя съела и ела других, ловя людей. Пехотный порутчик Трусковский съел двоих своих сыновей; один гайдук тоже съел своего сына, другой съел свою мать; один товарищ съел своего слугу; словом, отец сына, сын отца не щадил; господин не был уверен в слуге, слуга в господине; кто кого мог, кто был здоровее другого, тот того и ел. Об умершем родственнике или товарище, если кто другой съедал такового, судились, как о наследстве и доказывали, что его съесть следовало ближайшему родственнику, а не кому другому. Такое судное дело случилось в взводе господина Леницкого, у которого гайдуки съели умершего гайдука их взвода. Родственник покойника — гайдук из другого десятка — жаловался на это перед ротмистром и доказывал, что он имел больше права съесть его, как родственник; а те возражали, что они имели на это ближайшее право, потому что он был с ними в одном ряду, строю и десятке. Ротмистр… не знал, какой сделать приговор и, опасаясь, как бы недовольная сторона не съела самого судью, бежал с судейского места. Во время этого страшного голода появились разные болезни, и такие страшные случаи смерти, что нельзя было смотреть без плачу и ужасу на умирающего человека. Я много насмотрелся на таких. Иной пожирал землю под собою, грыз свои руки, ноги, свое тело и что всего хуже, — желал умереть поскорее и не мог, — грыз камень или кирпич, умоляя Бога превратить в хлеб, но не мог откусить. Вздохи: ах, ах — слышны были по всей крепости, а вне крепости — плен и смерть. Тяжкая это была осада, тяжкое терпение! Многие добровольно шли на смерть и сдавались неприятелю: счастие, если кто попадется доброму врагу, — он сохранял ему жизнь; но больше было таких несчастных, которые попадали на таких мучителей, что прежде нежели сдававшийся спускался со стены, был рассекаем на части»[216]. Интервентам не стоило жаловаться на плохое обращение с пленными: если бы они сами проявляли милосердие в этой войне, к ним, очевидно, также относились бы с сочувствием. Но всеобщее ожесточение достигло невиданных высот. Худо, не по-христиански, поступали с русскими поляки. Так же худо, не по-христиански, вели себя с поляками русские.
Еще один кремлевский сиделец не только подтверждает слова Будилы, но и представляет действия самих польских военачальников в очень неромантическом свете. По его словам, пехоте выдали русских пленников на прокормление. Как паек… Шайкам гайдуков, проведенных к наплавному мосту еще 23 августа, теперь приходилось хуже всего, и им позволяли устраивать вылазки за человечиной. Они ловили, если удастся, зазевавшихся ополченцев, рвали на части и съедали сырыми.[217]
Другой поляк сообщает схожие вещи: «Голод уже начинал мучить осажденных поляков и был настолько силен, что в течение двух месяцев люди ели собак, кошек, крыс, мышей, свежие трупы и даже — страшно сказать — Друг друга убивали и ели. Поляки в отчаянии хотели сделать вылазку, но враги клятвенно обещали им, что если они сдадутся, то выйдут живыми на волю с оружием и имуществом…»[218]
По данным современного польского историка Т. Богуна, за время осады было съедено порядка 250–280 военачальников и рядового состава.
Наверное, найдутся люди, которые назовут долготерпение польского гарнизона героизмом. Мол, две великие силы противостояли друг другу. И каждая из них шла на крайние жертвы в большой борьбе. Вот и кремлевские сидельцы предпочли исчерпать все силы человеческие, предпочли ужас людоедства позору капитуляции…
Да, в польской военной истории немало героических страниц. Да, этот народ показал и великое мужество, и великую волю, и великий поэтический дар… Но только обстоятельства кремлевской осады ни в коем случае не должны восприниматься как геройство, как мужество. Какая светлая идея бросала отблеск на лица отважных каннибалов? Рыцарская честь? Но что за честь такая — питаться человечиной?! Лучше бы ее не существовало — чести, принимающей подобные формы. Служба Его Величеству Сигизмунду III? Но король польский стремился не к защите своего отечества, а к захвату чужой земли. Самопожертвование ради его агрессивных мечтаний ничуть не добавляет польскому рыцарству доблести. Поляки были истинными героями, когда стояли против Красной армии за свою Варшаву — надо признать это! Но когда они ели друг друга, не желая вернуть нашу Москву, не было в этом никакой доброй идеи, никакой частицы света. Свирепость и страсть к захватничеству никого украсить не способны. Что остается на долю Струся с его воинством? Страх и жажда наживы. Более ничего.
Стоит ли сопереживать тем, кто занялся людоедством из страха и стяжательства?
Поведение кремлевского гарнизона — не слава, а позор для польского народа.
Впрочем, осквернились не одни только интервенты. Вместе с ними на дне нравственного падения оказались наши иуды. Их душевная темень — горше польской. Литовцы, поляки, немцы пришли как враги, как завоеватели. И они по-своему были честны: вели войну, являли жестокость с иноплеменниками и иноверцами, не ждали милости и для себя. Но наши, русские, православные люди оказались вместе с ними, предав и народ, и веру.