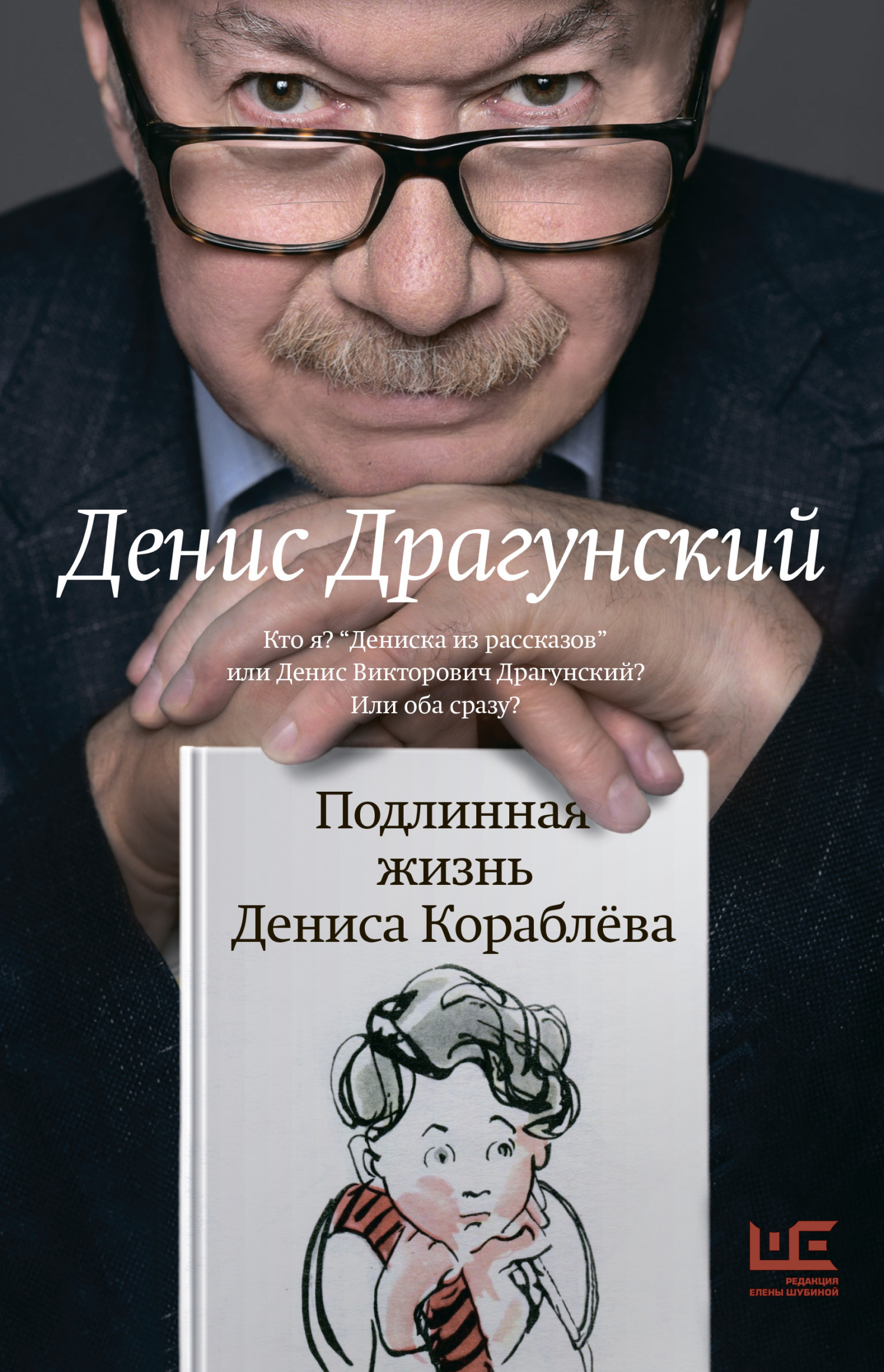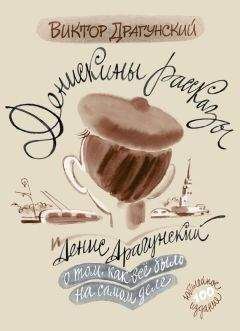что за чудо эта скрипка, Что такое темный ужас начинателя игры…»
Через несколько лет я понял, что Гумилев – поэт, конечно, хороший, но не великий. Что он чрезмерен в своей кокетливой силе, красив до жеманства, экзотичен до какой-то как будто «переводности» его стихов. Но тогда он пришелся в самый раз. Я выучил почти всю эту папку наизусть. На даче я читал Гумилева у костра ребятам. Меня слушали полчаса, час, полтора, и так по нескольку раз. Мои товарищи учили Гумилева со слуха. С моих слов. Я до сей поры помню двадцать, наверное, его стихотворений. И столько же – в кусках и отрывках. Поэтому я не стал покупать стихи Гумилева, когда запрет с него был снят. А бежевую папку я подарил. Вернее, так: дал почитать и не попросил назад.
Когда мне было уже лет двадцать, мы гуляли с одной красивой девушкой по двору ее дома. Была зима, снег скрипел под ногами, мы замерзли. Она сказала: «Прочитай мне наизусть десять стихотворений Гумилева! А потом пойдем ко мне, и я сделаю всё, что ты захочешь…» А когда я дочитал десятое (помню, это был «Леопард»), она докончила: «Всё, что ты захочешь. Но сам понимаешь, в пределах разумного, в рамках наших дружеских отношений». Какое издевательство! Я рассказал об этом папе. Спросил: «Ну вот что мне теперь делать?» Я ждал, что он посоветует бросить ее к черту или как-то еще более издевательски отомстить. Но папа сказал: «Что делать? Никогда не читать стихи на морозе!»
Среди папиных друзей был один замечательный старичок, поэт-пародист-юморист, выступал под псевдонимом Эмиль Кроткий. У меня где-то лежит конфетная бумажка, фантик с его эпиграммой: «Здорово, маленький Денис. Еще не видывал ты видов. Денис Драгунский, подтянись и стань гусарским, как Давыдов!» Он был знаком с Горьким – тот одобрительно высказался насчет сборника его сатирических стихов. Сказал: «Какой же вы Кроткий, вы очень даже свирепый». Леонида Зорина Горький тоже знал. Зорин был десятилетним вундеркиндом, которого представили Горькому, и Горький написал о нем большую восторженную статью – вот, мол, какие потрясающие дети растут в Стране Советов. А я знаком с Зориным. Одно рукопожатие до Горького. И вот так два раза. Ну и что? Лучше мне от этого стало? Честное слово, не знаю. До Гумилева и до Блока у меня тоже одно рукопожатие, не говоря уже об Ахматовой, Цветаевой, Мейерхольде. И тот же самый вопрос.
Дача была папиной мечтой. Не знаю почему. Считается, что о даче мечтает тот, чье детство прошло в деревне. Так написано в рассказе Чехова «Крыжовник». Но, наверное, все бывает по-разному. Вот я, например. Лучшие годы детства, юности и даже ранней зрелости провел именно что на даче. Речка, лес, деревья, чаепития на прохладной веранде… А вот поди ж ты – мне совершенно не хочется туда возвращаться. И, честно говоря, я не знаю, как отделаться от своей собственной дачи. Продать ее наконец, но не совсем уж за копейки. Не тянет меня туда совсем.
Папа был городским мальчиком. Первый его импринтинг, наираннейшее впечатление, которое, как говорят биологи, вместе с образом мамы и маминой груди намертво впечатывается в сознание, то есть в бессознательное, – это вообще каменные джунгли Нью-Йорка. А потом Гомель. А там и Москва – тесные дворы центральных улиц. У нас на Покровке был почти петербургский двор. Но папа мечтал о даче. Конечно, эта дача должна была быть именно в писательском поселке. Сейчас мне кажется, что именно собственная дача была для моего папы – чуть было не написал «для моего бедного папы»…
А что? Ему, когда он погружался в эти мечты, было едва пятьдесят. А мне сейчас семьдесят два. Поэтому я имею полное право сказать: «Бедный мой, зачем тебе все это?»
Собственная дача была для папы чем-то похожа на «взрослую прозу». Как бы масонские степени. Эстрадные скетчи и песни – это ученик. Детские рассказы – подмастерье. И, наконец, взрослая проза – это мастер. То же и с дачей. Комната или две, снятые в чьем-то большом доме с общей кухней и общей ванной. Маленький домик, целый, со своей калиткой и своим входом, но все-таки на чужом участке. И, наконец, свой собственный дом.
Дачи у нас в поселке продавались, но, кажется, у папы не хватало средств, хотя были у него и сбережения, были и договоры – то есть финансовая перспектива получения. Как-то раз на даче у Маклярского он прохаживался по дорожке от крыльца к калитке и говорил мне (хотя я был совсем еще маленький): «Надо бы, наверно, одолжить, но у кого бы одолжить? Вот так, под договор. Но у кого? Разве что у Симонова…»
Странное дело! Папа совершенно не был знаком с Симоновым, если только шапочно: на аллейках все разговаривали друг с другом. Не могу забыть ужасную сцену. Хотя, наверное, на самом деле в ней ничего не было ужасного, это я ее так почувствовал. Вот она: мы с папой возвращаемся из леса, а папа, как почти все мужчины в поселке, ходил с тростью. Очень красивая палка была, но не фабричная, не магазинная, не вырезанная каким-то мастером, а совершенно самодельная. Но какая-то очень удачная, из старой, долго лежавшей на солнце сосны, и поэтому такого благородного серебряного цвета. Тусклая и умеренно шишковатая. У меня, кстати, немного позже тоже была палка, с которой я не расставался. Но давайте попробуем без фрейдизма.
Итак, мы с папой шли по дачной аллее, возвращались из леса. Папа шел впереди, я шел сзади, отстав примерно шагов на пять, и нес в руках его трость, поигрывая ею: то стуча по асфальту, то сбивая головки репейников, то вертя в пальцах, изображая тамбурмажора. Трость была тяжелая, выпадала у меня из рук и с чудесным звоном сухого дерева падала на асфальт. Вдруг из-за угла показался Симонов. Красивый, высокий, смугловатый, седой, с трубкой и тростью. Папа тут же обернулся ко мне, забрал у меня свою палку и пошел Симонову навстречу, тоже неторопливым шагом, этак вальяжно опираясь на трость. Мне было одиннадцать лет. Но у меня сердце кровью облилось. Мне стало безумно, до боли в горле жалко папу. Хотя я тогда, наверное, не мог бы себе объяснить почему. Помню только это чувство. Мне казалось, что в этой вроде бы неторопливой походке и в этом поспешном вооружении тростью есть какое-то унижение, какое-то почти публичное признание собственной малости, которая вынуждена притворяться, выпендриваться, играть какую-то роль. Они