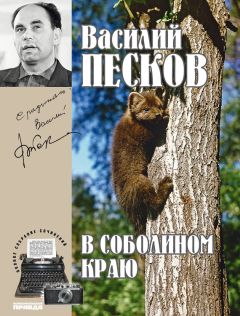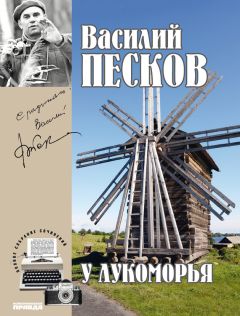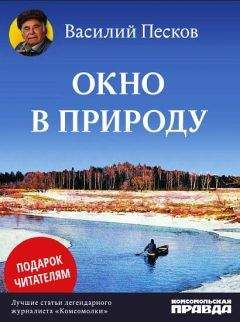– Что за базар там у них, неспроста собрание устроили, – указал лесник в сторону высокого вяза, где беспокойно прыгали, взлетали и снова садились сороки.
Возле вяза пахло потухшим костром. На ветках сушилась рыболовная сеть. Тут же, завернутые в мокрый прошлогодний мох, лежали большой сом и пара язей, видно, утренняя добыча рыболова. Котелок, пучок сиреневых цветов-самсончиков, у тропинки – очень старый, ободранный мотоцикл с коляской. В коляске – мелко наколотые дубовые пеньки и бутылка с березовым соком. У потухшего костра, прикрыв лицо куском брезента, кто-то спал.
– Антониха! – окликнул лесник.
Старуха сбросила брезент и, ничуть не смутившись, сразу предложила:
– Часом, не голодны? Вон рыба, крупа есть, пить – березовый сок…
Мне много пришлось ездить в лесах. На таежных заимках встречал женщин-охотниц: не дрогнув, медведя подпустят на выстрел, в тайге в трескучий мороз ночевать останутся. Но тут, в сорока километрах от железной дороги, на обжитом Дону, эта встреча казалась наваждением.
Закатное солнце просматривало Сорочью балку, и я с нескрываемым любопытством разглядывал Антониху. Ей было лет шестьдесят – седые пряди выбивались из-под серой верблюжьей шали. Глаза, однако, глядели совсем не по-старушечьи. Не прожитый с годами природный ум светился в этих глазах, да, судя по всему, и на зрение старуха не жаловалась
– Метко стреляешь, Антоновна? – кивнул я в сторону ружья.
– Швыряй картуз кверху – увидишь… Чудно небось встретить такую ведьму в лесу, – вдруг засмеялась Антониха. – Признайся, чудно. А?
Я сказал, что рад такой встрече, что сам в лесу вырос.
– Я не отшельница. Жизнь на людях прошла… А лес люблю… И Дон люблю. Да что ж мы стоим? Набери сушняку, а я рыбу почищу. У огня разговор-то веселее.
Лесник махнул рукой и один пошел на поляну караулить вальдшнепов. А мы с Антонихой зажгли костер да так и просидели под звездами до утра.
Под шорохи лесной ночи перед моими глазами прошла трудная, не совсем обычная и красивая жизнь простой деревенской женщины.
Отец был добрым и ласковым человеком. Но была слабость у отца: увлекся церковным пением, забросил хозяйство. Настя встала за соху – попробовать, да так и осталась на пашне.
Умер от болезни отец, а мать после него – от горя. Перед смертью мать собрала ребятишек и Настю позвала:
– Ты остаешься, дочка, хозяйкой. Сестрам и брату не на кого, кроме тебя, надеяться. Дюже трудно будет, тогда – в приют, а пока силы есть – не дай пойти по миру ребятишкам.
День за днем, год за годом: пашня, покос, молотьба; зимой, чтобы добыть лишний кусок хлеба, охотилась, летом рыбачила. Мужская работа сделала Настю грубоватой, по-мужски смекалистой и выносливой.
Незаметно, как июньская сенокосная пора, прошла молодость. Не было у Насти часу ходить в луга, где водились хороводы, и подруг не было, все с мужиками в поле: пашня, покос, молотьба, охота…
Повырастали сестры, попросили благословения замуж. Брат тоже женился, в Москву уехал… Выполнена материнская заповедь – пора бы и о себе подумать. Поздно! Уже не Настей, а Антонихой зовут ее в селе. Да и трудно было менять проторенное русло жизни: землю полюбила, к охоте пристрастилась.
За доброту, честность и справедливость выбрали Антониху председателем сельского комитета бедноты. С той трудной поры укрепилось за Антонихой ласковое прозвище «мирской матери». После, двадцать лет подряд, выбирали эту почти неграмотную женщину народным заседателем. И нет на селе человека, который сказал бы, что Антониха хоть раз покривила душой, не заступилась за обиженного и отпустила виновного.
Первой вступила в колхоз. И по селу пронеслось: «Антониха записалась». И уж не надо было агитировать мужиков.
Вынесла все тяготы первых лет жизни колхоза: опять пахала, косила, молотила, воевала с кулаками. Была лесничихой и председателем сельсовета…
Чего только не умеют делать золотые руки этой не балованной жизнью женщины! Самый лучший в селе сад – у Антонихи. Антониха может починить замок и сшить сапоги. Во время войны, когда было разграблено и сметено село над Доном, чинила обувку, клеила односельчанам бахилы из автомобильной резины, из старых ведер делала распространенные в войну мельницы-терки. Не далее как три года назад своими руками новую избу поставила.
В сенях этой хаты пахнет мятой и какими-то лесными травами. Приглядевшись, в темном углу можно заметить нанизанные на нитку грибы, олений рог, гроздья прошлогодней рябины, заячьи шкурки, растянутые на досках… Это все лесные трофеи Антонихи. Лес и речка давно уже стали для нее вторым домом.
– Скучно в лесу одной-то? – спросил я.
– О, милый, нешто я одна! Гляди-ка, сколько птичьих голосов, сколько шорохов кругом… И на реке тоже хорошо. Умирать буду, закажу, чтобы на круче похоронили, чтобы лес и воду было видно… Для меня лес и речка – что песня. Так-то вот, человек хороший.
– А что, Антоновна, и вправду плавать не умеешь? – напомнил я разговор при первой встрече.
– Истинно. Не держусь на воде. Сколько ни училась, не держусь, и все.
– А если лодка перевернется?
– Случалось. А я минуты две могу без воздуху. По дну бегом, бегом к берегу. Вынырну, дыхну – и опять… Топнут люди больше от страху. А я что ж, я привычная, почитай всю жизнь на воде…
Дома из пустого кованого сундучка Антониха достала связку пожелтевших бумаг.
– Помоложе была – на волков ходила. Вот взгляни, карточка… А вот квитанции: семьдесят заячьих, двадцать лисьих шкурок в зиму сдавала. Первой охотницей числилась. Перед войной позвали в город меткость испытать. Машина там маленькие тарелки вверх швыряла. Охотники по им и лупят. Я, кажется, одну только пропустила. Премию пятьсот рублей дали… Теперь уж не тот глаз, и рука тяжела стала, – вздохнула Антониха. – Шестьдесят годов по земле отходила. Да и увечья дают знать.
Такова, если рассказать коротко, биография Антонихи, Анастасии Антоновны Трофимовой. А вот несколько более подробных страниц из этой трудной, честно прожитой жизни.
Год 1933-й. Темная февральская ночь. В заснеженном поле у стога – две темные фигуры. Холодно и неуютно. Люди то спрячутся от ледяного ветра, то вдруг начнут быстро ходить, поколачивая валенками. Двое караулят картошку, спрятанную с осени в ямах. Нельзя не караулить – голод, воруют, кулаки не дают молодому колхозу встать на ноги. На прошлой неделе огребли одну яму. Картошку, правда, не увезли, а бросили на морозе, чтобы на семена не годилась.
Долго тянется холодная ночь. Хочется людям положить ружье, глубже втиснуться в старую солому. Глаза слипаются от усталости, но нельзя спать: сами вызвались сторожить…
Фыркнула лошадь.