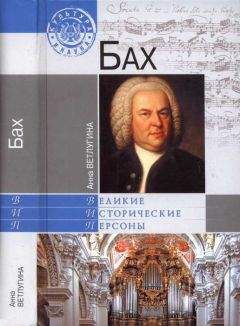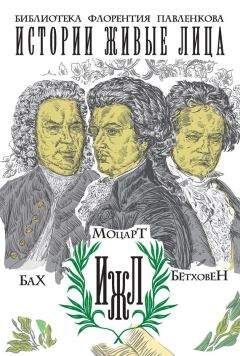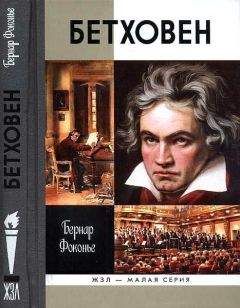А вот работать с детишками оказалось непросто, как он и подозревал. Нет, педагогический авторитет кантора никто не думал оспаривать. Воспитанники изо всех сил старались слушаться, вот только хороший хор из них оказалось сделать еще труднее, чем в Арнштадте. Те мальчишки, несмотря на свою нерадивость, в целом больше находились под присмотром, чем их лейпцигские сверстники. В весьма богатом Лейпциге проживало слишком много пришлого люда — от студентов до рабочих. Университет, знаменитые ярмарки, крепнущая прядильная и горнорудная промышленность — все это привлекало молодых и энергичных. Они оставались в городе, заводили семьи или забирали из родных мест уже имеющихся жен и детей. Разумеется, их быту не хватало устроенности. Семьи ютились в тесноте, дети часто болели. Но даже самые бедные стремились сделать своих отпрысков грамотными.
Контингент, доставшийся Баху в Томасшуле, не отличался от других городских школ. Еще покойный Кунау сетовал на «запущенность» своих питомцев. Иоганн Себастьян помнил об этом, но не представлял всей глубины проблемы. Когда же мальчики выстроились перед ним — худые, нечесаные, одетые кое-как, он понял: с хором будет непросто.
Так и вышло. Внимательность хористов страдала от чесотки, а звучание сильно зависело от погоды. Подует холодный ветер или зарядит дождь — ангельская красота начинает неуклонно снижаться из-за простуженных глоток. Кантор поначалу пытался следить, чтобы хористы тщательно одевались, выходя на улицу. Но, посмотрев повнимательнее на их дырявую амуницию, махнул рукой на это дело.
Городской музикдиректор, как уже говорилось, курировал протестантские церкви Лейпцига, коих насчитывалось шесть. Две из них, самые вместительные, — церковь Святого Фомы и церковь Святого Николая — считались главными. Детских хоров имелось только четыре. Иоганн Себастьян руководил только самыми лучшими — первым и вторым. За третий и четвертый отвечал его помощник. Из этих двух, не самых лучших хоров, третий еще мог исполнять несложные и короткие старинные мотеты. Про четвертый Бах предпочитать умалчивать, благо почти безголосые школяры из последнего хора пели только в церкви Святого Петра, находившейся в самом отдаленном районе Лейпцига. Кантор там не бывал вовсе.
Между первым и вторым хорами также наблюдались существенные различия. По словам самого Иоганна Себастьяна, «…церковные музыкальные пьесы (большей частью моего сочинения), поручаемые первому, несравненно труднее и сложнее, нежели те, что исполняются вторым хором…». На больших праздниках оба коллектива соединялись в сводный хор или звучали одновременно, но каждый со своей музыкальной задачей.
По этой причине разделить два «хороших» хора между двумя главными церквями не представлялось возможным. Скажем больше: если бы даже оба хоровых коллектива пели одинаково хорошо, то и тогда Баху, вероятно, захотелось бы объединить их на репетициях для экономии времени.
На дисциплину в хоре кантор пожаловаться не мог, несмотря на сомнительное происхождение многих учащихся. Повышенное послушание учеников объяснялось очень просто. Устав Томасшуле предполагал строгую систему денежных штрафов за каждую, даже незначительную, провинность. Наказывали даже за слишком громкий разговор и недостаточно чинную походку. За незакрытую дверь классной комнаты вычиталось два гроша, а если кто пропустит утреннюю службу — уже целых три пфеннига. Это уже порядочная дыра в тощем школярском бюджете.
Неожиданным врагом для Иоганна Себастьяна стал школьный лекарь. Нет, личных претензий кантор к нему не имел. Но слишком часто повторялась похожая ситуация: осмотрев чье-нибудь больное горло, врачеватель освобождал ученика от пения, потом другого, третьего. В результате хор оказывался под угрозой. Бах, может быть, с удовольствием вовсе не отпускал учеников на улицу в холодную погоду, но услуги хористов постоянно требовались на свадьбах и похоронах. Идти за гробом, разумеется, приходилось в любую погоду.
Школяры, жаждущие заработка, так и рвались попеть где-нибудь. Им строго запрещалось покидать школу без ведома ректора или председателя. Но и разрешенных выходов хватало. К тому же дети имели возможность простудиться помимо свадеб и похорон.
Церковь Святого Фомы находилась примерно в семи минутах ходьбы от церкви Святого Николая. Первая могла вместить полторы тысячи прихожан. Вторая имела более красивый интерьер, и в ней служил пастором известный в те годы Соломон Дайлинг, университетский профессор, член консистории и суперинтендент города. Обе они нуждались в превосходном хоровом пении по большим праздникам. Как же выходил из положения Бах? Очень просто. Хватал ноты и быстро перемещался вместе с мальчишками от одной церкви к другой. Это имело смысл, поскольку лютеране любили длинные проповеди, во время которых музыка, естественно, не звучала. Ну и начало службы, очевидно, разнилось не менее чем на полчаса. Иначе Баху и его воспитанникам точно бы понадобились двойники для исполнения входных гимнов.
Так и представляется картина: уважаемый музикдиректор, кантор и отец семейства бежит по улице. В одной руке — сверток нот, другой он придерживает парик. За ним, словно в легенде о крысолове, гуськом, вприпрыжку — дети. Вдруг небо разверзается ливнем. Зонтики уже существуют, но прогуливаться под ними принято исключительно дамам и то лишь с целью защиты от солнца. А путешественник Джонас Хэнвей, первый мужчина, решившийся защититься от непогоды с помощью дамского аксессуара, еще ходит пешком под стол.
Можно, конечно, спрятаться под вон тем огромным деревом или вот под этим навесом. Но минуты неумолимо ползут. Уже заканчивается проповедь в Томаскирхе. Если после слов пастора не зазвучит музыка — скандал неминуем. Ортодоксальные лейпцигские бюргеры не потерпят такого нарушения ритуала. Кантор ускоряется. Мальчишки на бегу с сожалением смотрят на возможные укрытия.
Мокрыми и жалкими, едва успев к сроку, прибегают хористы вместе со своим руководителем на следующую службу. У господина кантора и музикдиректора с парика за шиворот стекают холодные противные струйки. Разве подобные неудобства могли бы случиться в резиденции светлейшего Леопольда? Даже и в Веймаре, у своенравного Вильгельма Эрнста? Но начинается кантата, и Иоганн Себастьян уже не помнит ни про дождь, ни про грядущее возвращение в Николаускирхе. В руках его — невидимые ниточки, на которых держится музыка целого Лейпцига. Что может сравниться с этим восторгом?
Глава третья.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СКАНДАЛИСТ
Почему же столь мирно и радостно начинаемая служба снова привела Баха к конфликтам? Лейпцигские дрязги оказались самыми затяжными и выматывающими в жизни композитора. И здесь даже самые ярые и романтически настроенные защитники нашего героя склонны признавать его немалую вину.