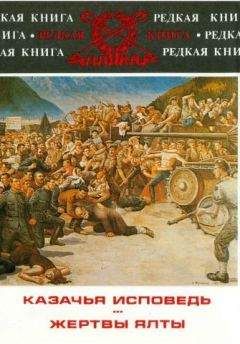Михаил Александрович побеспокоился потом, чтобы меня провезли машиной в родную станицу. В Усть-Медведице я побывал у моей 90-летней тетки Клавдии, которая с 1918-го ждала своего единственного сына, работающего шофером такси в Париже. Его в Союз не пускало советское консульство.
А мы с Алешкой простились с Вешенской и, уже на больших скоростях пробежав достопримечательные места Москвы, Ленинграда, Киева, пересекли пограничный Чоп и оказались дома.
Конечно, самым ярким впечатлением от поездки осталась встреча с Шолоховым. Я буквально жил ею — рассказывал о писателе знакомым казакам, писал Михаилу Александровичу письма, не надеясь получить на них ответ. До меня ли ему, когда ежедневно приносили на стол не менее пятидесяти писем со всех концов мира. Но вот в январе 58-го приходит письмо, где обратный адрес указан одним словом — «Вешки»… Это была весточка от Шолохова. Михаил Александрович писал:
«Дорогой Николай Андреевич!
Добро вам — закоренелому домоседу — судить и осуждать меня за молчание. А каково мне, бедному, ежели весь год живу на колесах? После вашего отъезда — поездка в Москву и длительное пребывание там, затем повторно Ростов, Сталинград, Куйбышев, потом на три недели Крым, потом почти на три месяца Западный Казахстан (охота), следом — месяц в Москве, и вот только что добрался до дома и… около тысячи шестисот писем и рукописей на столе. Каково? Это надо понимать и сочувствовать человеку, а не судить строго.
Но если говорить серьезно, я с ужасом думаю: когда же я возьмусь за перо как писатель? Ведь большинство писем это не „здорово да прощай“, а просьбы заключенных, молодых писателей, обиженных местными властями, словом, такие письма, по которым надо действовать немедленно и промолчать нельзя. Надеюсь, вы это понимаете, милый доктор? Не обижайтесь и впредь, если буду неаккуратным корреспондентом.
Что касается Пузикова и Спиридона, то от них вы вообще едва ли дождетесь ответа… Первый, как и всякий председатель РИКа, занят с утра до ночи, а Спиридон даже родной жене за четыре года войны ни одного письма не написал из-за великой нелюбви к этому делу. После демобилизации он оправдывался перед женой (он ее называет — „моя Ехимовна“) так: „А чего бы я тебе писал? Раз не получала из военкомата извещение о моей погибели, значит, я живой“…
Берите летом жену и Алешу и приезжайте на тихий Дон рыбачить. Жизнь в Вешках недорога, сымете комнату, и перед вами — Дон со всеми его прелестями. Купите и освойте спиннинг, пригодится! Ей-богу, советую! Желаю вам здоровья и бодрости. Сердечный привет вашей супруге и Алеше. Мария Петровна кланяется.
Ваш М. Шолохов
22.1.58. Вешки
Мой приезд в Чехословакию, возможно, состоится в мае этого года. Когда прояснится у меня с работой, махну на вашу вторую родину. Вас извещу заблаговременно.
м. ш.»
Надвигалась чахлая чешская весна. Первого апреля — время шуток, обманов, почти всегда милых и невинных, — держи ухо востро: надуют, а потом долго будут смеяться над простофилей. Чехи вообще большие шутники, любят юмор, понимают его. Жена, замещая в местной школе учителя русского языка, пришла из школы и радостно сообщила:
— А ты знаешь, Шолохов в Праге! То есть не в Праге, а в Чехословакии…
На мой недоуменный вопрос, откуда это у нее, Оля спокойно ответила:
— Да в школе новая учительница и другие говорили, что он приехал сюда: вчера по радио сообщали.
Я замер от радости, но тут же вспомнил:
— Оля! Да сегодня же первое апреля! Ну, конечно же, они тебя разыграли…
Но вот вечером нахожу в «Свободном слове» сообщение о приезде и портрет Михаила Александровича. Он тут на короткое время. Мария Петровна в Карловых Варах… Тут же решено: завтра в пять часов утра едем в Карловы Вары. Беру пятидневный отпуск. Срочно телеграфирую: «Писателю Шолохову, гостиница „Империал“, Карловы Вары. Дорогой Михаил Александрович. Завтра третьего апреля приеду к вам с женой. Прошу принять. Николай Келин из Желива, клетский казак».
В Карловых Варах всей семьей мы были около полудня. Но там с огорчением узнаю, что Шолохов неожиданно выехал еще вчера в десять утра.
— Как? Но я же ему послал телеграмму!
— Да, она пришла час спустя после его отъезда.
— Куда же он выехал?
— Направление не сообщили, — отвечает управляющий гостиницы и показывает книгу посетителей. — Вот смотрите — их было шесть человек и с ними два тайных. Уехали на трех машинах.
Читаю: М. А. Шолохов, М. П. Шолохова, М. М. Митрофанова, В. Г. Митрофанов, М. М. Шолохов, Ф. Пономарев.
— Кто это, этот Митрофанов? — спрашиваю служащего.
— Муж дочери Шолохова.
— А этот Ф. Шахмагонов?..
— Не знаю…
Принимаю решение ехать в Прагу, в посольство. Там размотаем туго затянувшийся клубок.
С трудом удается узнать, что семья Шолохова остановилась в так называемой вилле Конева, или, как ее тут еще называют, Карловарской. В ней останавливаются великие мира сего по возвращении с курорта, ожидая отлета в Москву. Вилла до 1945 года принадлежала какому-то чешскому магнату с немецкой фамилией, а после войны была подарена правительством маршалу И.С Коневу. Ему она оказалась ненужной, и он, в свою очередь, подарил этот роскошный особняк Центральному Комитету компартии Чехословакии. Там я и встречаюсь с Шолоховым.
— Так вы приехали? Вот хорошо! — обрадовался Михаил Александрович. — А я замотался, спешу. Сейчас опять куда-то увозят. Были с Гришиным у Зденка Неедлого.
— А когда же к нам? — спрашиваю, понимая, что сейчас, в столь неожиданный приезд, это совершенно неисполнимо. — К казакам нужно — вы же наш!
— Да я приехал от казаков — они ведь там, — говорит Шолохов, и я замечаю на нем неважнецкое пальтишко, на шее какой-то полосатый шарфик, в руках — помятую серую шляпу.
— Михаил Александрович, там одни казаки, а тут другие — заграничные. Как они вас ждут!
Шолохов молча улыбается.
— Нет, нет, сейчас и завтра, в субботу, все занято. Езжайте домой. В субботу жду вас здесь в семь вечера, — говорит Шолохов, — посидим, выпьем водки и вдоволь наговоримся…
До субботы останавливаемся у знакомых. Это русско-чешская семья. Он — художник-график, она — сестра знаменитого в свое время основоположника футуризма Давида Бурлюка, того самого, который когда-то посвящал молодого бунтаря Маяковского в тайны непривычной для русского уха скандовки грубого стиха.
Бурлюк живет в Америке. Как-то он навестил меня со своей женой, и я увидел хитрого, прожженного всеми горнилами 70-летнего старика, юркого, суетливого. Глаза у него смеющегося озорного подростка, они обшаривают вас со всех сторон и оценивают быстро и безошибочно во всех измерениях. Бурлюк сидит за столом в столовой и с аппетитом ест гуся. Он все хвалит, всем доволен. «Давид Давидыч, скажите на милость — ну к чему это вы тогда с Маяковским разводили все эти желтые кофты, бубновые валеты и прочую мерехлюндию? Какой смысл был во всем этом?» Бурлюк, дожевывая что-то, вытирает рот салфеткой и, лукаво прищурив смешливые глаза, выпаливает: «Жить-то надо было, Николай Андреевич. Русскому обществу тогда скучно было — вот мы и выдумывали что-нибудь новенькое. Старое-то надоело». Хитрый дядя, думаю, смотря на Бурлюка. Раньше бы он этого не сказал, а теперь, на восьмом десятке, пожалуй, все можно. Бурлюк рассказывает, как они с женой путешествовали по СССР, как были гостями советского правительства. Показываю ему картины, читаю стихи и очерк о Шолохове. Он все хвалит, со всем соглашается. Вообще интересно было посмотреть на этот осколок начала XX столетия, бывшего бунтаря и прожигу. От прежнего Бурлюка не осталось ничего…