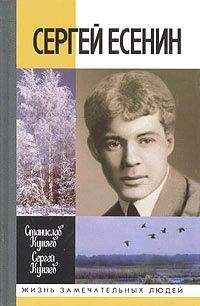Эренбург просил Буниных приютить и обласкать Ивана Сергеевича Шмелева, который оказался невольным свидетелем тех страшных событий, был убит свалившимся на него горем и деморализован увиденным. Он чрезвычайно тяжело пережил крымскую трагедию: потерю сына, голод, мародерство, террор. Сын Шмелева лежал тогда в госпитале и был расстрелян вместе с другими.
Там, во Франции, в 1923 году напишет Шмелев свое выдающееся произведение «Солнце мертвых» о том, как на фоне прекрасной крымской природы по вине человека гибнет все живое: птицы, животные, люди. Это объясняет позицию Есенина по отношению к «милому недругу» Оренбургу.
Ни Матвей Ройзман, ни Юрий Либединский, ни Всеволод Рождественский в есенинских друзьях не числились и потому не могут похвастать ни одним дарственным стихотворением Есенина. Тем более, нечего говорить о зарубежных друзьях. Илья Эренбург, напротив, имел (и не одну) книгу с дарственной подписью и душевными словами Есенина. Награда немалая! Почему же в скромных и сдержанных воспоминаниях Ильи Эренбурга не нашлось для Есенина достойных слов? Нашел же он такие слова для есенинской поэзии! Поэзию поставил высоко, а ее автора, можно сказать, совсем обошел словом.
Может сидела в нем личная обида? До отъезда за границу Есенин как будто выделял Эренбурга из общей массы, а после возвращения скажет о его романе: «Пустой. Нулевой. Лучше не читать». Конечно, такая оценка не могла не задеть писательского самолюбия: Бухарин одобрил и благосклонно отнесся к первым литературным опытам, а Есенин, видите ли, ничего положительного не нашел. Кроме того, интернационалистов по духу не могло не раздражать есенинское «ищи родину». «Мои друзья без чувства родины». Примечательны в этом плане слова Эренбурга о Есенине: «Часто я слышал, как, поглядывая своими небесными глазами, он с легкой издевкой отвечал собеседнику: «Я уж не знаю, как у вас, а у нас в Рязанской…» И наконец, поистине прав поэт, сказав однажды:
Остаться можно в памяти людской
Не циклами стихов и не томами прозы,
А лишь одной-единственной строкой:
«Как хороши, как свежи были розы!»
в памяти людской можно остаться «чистюлей» и «деревенским аристократом», а можно «человеком, которым вымыли пол». Нет, это не насмешка, не издевка и не карикатура на ведущего советского писателя. Такой портрет оставил близкий друг Эренбурга Максимилиан Волошин:
«С болезненным, плохо выбритым лицом, с большими, нависшими, неуловимо косящими глазами, отяжелелыми семитическими губами, с очень длинными и прямыми волосами, свисающими несуразными космами (…) сгорбленный, с плечами и ногами, ввернутыми внутрь, в синей куртке, посыпанной пылью, перхотью и табачным пеплом, имеющий вид человека, которым только что вымыли пол».
Это потом Илья Григорьевич приобретет гордую осанку, импозантный вид и красивую шевелюру, а современники 20-х годов знали его иным.
«До чего же он мне не понравился! — пишет Белозерская-Булгакова, встречавшая Эренбурга в Берлине в 1921–1922 гг. — Во-первых, почему писатель должен ходить всклокоченным? Можно ведь и причесаться! А потом, разговаривал он «через губу», недружелюбно. Я наблюдала его несколько раз. Ох, не хотела бы я зависеть от этого человека!»
Читаем у Ирины Одоевцевой:
«Симонов очарователен. Мне он очень понравился. Но Эренбурга как будто подменили. Другой человек и только… Тот, прежний Эренбург, просто карикатура на теперешнего. Этот — сенатор, вельможа. Сам себе памятник».
Вот и судите, что могло остаться от человека и писателя Ильи Эренбурга, проживи он, как Есенин, только 30 лет.
В 1921 году наметилось их расхождение и в жизни, и в литературе. Есенин не принял большевистской идеологии и оставался «сам по себе». «По линии писать абсолютно невозможно. Будет такая тоска, что «мухи сдохнут». «По линии», т. е. по указке партии. Есенин выбрал свою дорогу: «Я понял свое предназначение». «Есенин пошел по другой дороге, не по той, которую ему указывали» (Екатерина Есенина).
Эренбург официально представлял на Западе советскую державу и советскую идеологию. Не всем современникам нравилась такая метаморфоза: Горький назовет его «пенкоснимателем», а Юрий Анненков — «эластичным»:
«Задача, возложенная на Эренбурга коммунистической партией, заключалась в том, чтобы создавать впечатление либерализма и свободомыслия советских граждан и советской действительности. Задача далеко не легкая, требующая больиюй эластичности, и Эренбург является поэтому одним из редчайших представителей советской страны, которым поручается подобная миссия. Он весьма успешно выполняет ее на протяжении целого сорокалетия».
Анненков приводит конкретные примеры «эластичности» советского писателя: «Он (Пастернак) читал мне стихи… Я ушел полный звуков», — но тут же добавляет: «С головной болью».
Несколько иначе, как противопоставление «лучшему, талантливейшему поэту советской эпохи, Маяковскому написана статья о Есенине, но также «эластично».
«Илья Эренбург вообще очень хорошо знает, о чем, когда и как следует писать, а к 1925 году окончательно оформился как фаворит советской власти» (Ю. Анненков). Вот это и объясняет, почему Илья Эренбург не нашел для Есенина других слов, хотя воспоминания написаны в конце жизни писателя. И почему в 1921 году Есенин написал: «Илье Эренбургу с любовью и расположением» у — а в 1923 г.: «Пустой. Нулевой. Лучше не читать».
С тех пор много станут писать о пьянстве и хулиганстве Есенина и, как правило, Есенин не будет разубеждать, отрицать, будет даже поддерживать это мнение. Далеко ходить за примерами не надо. Вот что пишет Юрий Анненков:
«В 1920 году, сразу после занятия Ростова-на-Дону конницей Буденного, воспетой Исааком Бабелем, я приехал в этот город и в тот же день попал на «вечер поэтов»., в помещении «Интимного театра».
— Есенина! Есенина! — кричали с галерки.
Голос из публики ответил:
— Есенин не дождался своей очереди и ушел ужинать в «Альгамбру».
(…) Проголодавшись, я отправился в названную «Альгамбру», где и встретил Есенина, и мы снова провели пьяную ночь.
— В горы! Хочу в горы! — кричал Есенин. — Вершин! Грузиночек! Курочек! Цыплят!.. Айда, сволочь, в горы?! — «Сволочь» — это обращалось ко мне.
(…) Есенин стучал кулаком по столу:
— Товарищ, лакей! Пробку!!
«Пробкой» называлась бутылка вина, так как в живых оставалась только пробка: вино выпивалось, бутылка билась вдребезги.
Я памятник себе воздвиг из пробок.
Из пробок вылаканных вин!..
— Нет, не памятник — пирамиду! — И, повернувшись ко мне: — Ты уверен, что у твоего Горация говорилось о пирамидах? Ведь при Горации пирамид, по-моему, ещё не было?