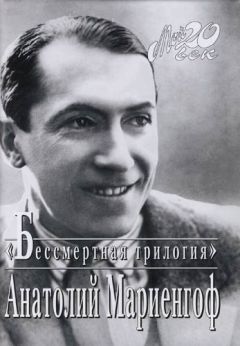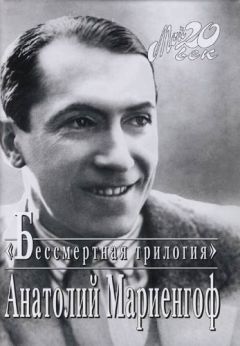— Сейчас рябчиков принесу.
— Что? Рябчиков? Еще до седьмого пота работать? Тоже… хозяева… на наши головы! А брусничное варенье для рябчиков найдется?
— Найдется! — гордо отвечает хозяйка.
Это ее третий «прием» в жизни.
— Странно… в таком доме и вдруг нашлось!
— Знаете ли, друзья мои, я собираюсь уходить из Художественного театра, — говорит Качалов, обсасывая ножку рябчика.
— Куда ж это ты уйдешь, Василий Иванович? Кто тебя возьмет? Не смеши! — трясет плечиками Литовцева.
— Да вот… на эстраду уйду.
— Кхэ-кхэ, Качалов — эстрадник! Чудная картина!
— Н-да, Нина, эстрадник. По крайней мере с чем хочу, с тем и выступаю. И отбирать у меня режиссер ничего не станет. Им ведь, Нина, ты будешь. Для эстрады-то. И авторы у меня найдутся неплохие: Толстой, Достоевский, Пушкин, Шекспир, Байрон, — и ролей ни у кого не просить. Что хочу, то беру. Вот и Ричарда, вероятно, сыграю. Ведь мечты-то о нем второе десятилетие.
Пыжова спрашивает:
— Ты это серьезно, Вася, на эстраду собрался?
— Очень. А ты возражаешь?
— Да.
— Почему?
— Потому, что ни Качалов не может уйти из Художественного театра, ни Художественный театр от Качалова. История вас связала.
— Вздор! Историю делают сами люди.
Нужды нет говорить, что сразу же после первого общественного просмотра «Трех сестер» вся нелепость замены Качалова Болдуманом стала явной и бесспорной.
Качалов усердно посещал генеральные репетиции, заходил после каждого действия в уборную Болдумана и давал ему советы — умные, тонкие и дружелюбные.
На другой день Пыжова и Никритина полувозлежали на нашей неперсидской тахте. Я сидел на подоконнике, заложив ногу на ногу.
Они болтали о женщинах. О Дункан, об Алисе Коонен, о Зинаиде Райх. Прислушиваясь одним ухом, я подумал: «Удивительно! Они еще ни разу…» И в то же мгновение Пыжова спросила:
— А сколько лет Коонен?
Я обрадовался: «Вот теперь все в порядке — самый волнующий вопрос задан!»
Никритина вздохнула:
— Не знаю, право. Но, несомненно, я скоро догоню ее. Алисе, видишь ли, с каждым годом делается все меньше и меньше, а мне, как идиотке, прибавляется. Это кошмар какой-то!
— А сколько лет Айседоре Дункан? — спросила меня Пыжова.
— Этого, Оля, не знает даже Британская энциклопедия, которая знает все.
Пыжова уверенно сказала:
— Самое глупое устраивать тайну из своего возраста. Надо ляпать начистоту! Не убавляя! Тогда и публика прибавлять не будет. Она не очень-то добрая, эта публика. Морщинки актрис в бинокль подсчитывает.
— К тому же, — добавил я, — слава здорово старит. Вот хохлушки из Полтавы будут говорить: «Эта Никритина при Февральской революции уже была знаменитостью!»
— Ужас!… А мне в Полтаве шестнадцать лет было!
— Семнадцать, Нюшенька.
— Отстань! Это безразлично.
— Моя теща, — продолжал я, — к счастью, не актриса. А попробуйте узнайте у нее год рождения!
— У-у! Мама сразу ответит: «Зачем вам это надо? Вы, что ли, хотите из меня борщ варить?»
— Вот сумасшедшая старушка! Прости, пожалуйста, Нюша, — сказала Пыжова.
Я очистил для женщин по мандарину и, угостив их, спросил:
— А сколько тебе, Оля?
Пыжова побледнела.
— Ты в каком году родилась, голубка?
— Вот в каком! — прошипела Пыжова.
И, сверкнув через очки разноцветными глазами, показала мне крупную дулю.
— Ну и хам же у тебя муж, Никришка!
И, прижавшись щекой к ее щеке, Пыжова сказала:
— Ты, Нюшка, молодая женщина, а я… — И поправила очки на носу. Она еще не привыкла к ним. — А я «еще молодая женщина».
— Это очень тонко сказано, Оля!
— Запиши. Пригодится для будущих мемуаров.
— Для этого, Оля, у меня существует голова. Записную книжку потерять можно.
— Голову тоже.
— Сколько лет Василию Ивановичу? — спросила Никритина.
— Наш Васенька собирается Чацкого играть. Вот и считай. Чацкому-то сколько? Столько будет и Качалову. Эти проклятые мужчины вечно молоды. Семидесятилетние женятся на двадцатилетних, и никто не хихикает. А когда прелестная Дункан влюбилась в вашего Сережу… Э!… И почему, Никриша, мы с тобой не мужчины? Вот бы распушились!
— Бодливой корове, Ольга, Бог рог не дает.
Когда Пыжова ушла, я сказал:
— Ольга очень быстро стареет.
— Ты находишь?
— Быстро, как газета.
— Это потому так кажется, что она стала носить очки.
— Может быть.
— Хотя они к ней идут. Правда, Длинный?
— Ты думаешь, теперь она будет стареть помедленней?
— Надеюсь.
— Пусть бы старела, как толстый журнал. Хотя бы, как толстый журнал. Иначе уж очень грустно.
— А я?…
— Ты, Нюха, останешься вечно молодой. Как мои стихи.
— Хвастун!
— Разумеется.
Есенин вернулся из-за границы не Есениным. Тяжелые мрачные страницы придется написать об этом. Какой-то неразрываемый мрак туго запеленал его больное сознание. И, может быть, единственной светлой щелочкой в этих пеленах был шумный житель фибрового чемодана. При первом же знакомстве с нашим парнем Есенин на четверть часа совершенно преобразился: из глаз вылилась муть и порозовел церковный воск его очень худого лица.
— Толя, Мартышон, я крестный вашего пострела.
— Разумеется, Сережа.
— А знаете, ребята, как я буду его крестить?
— Нет.
— В шампанском! — и, как некогда, сверкнул лукавой улыбкой.
— А не напьется ли наш великан на радостях?
— Не остри. Разговор деловой и важный.
— Само собой.
— Я наполню купель до краев шампанским. Стихи будут молитвами. Ух, какие молитвы я сложу о Кирилке! Чертям тошно будет, а святые возрадуются. Согласны?
— Я, Сережа, согласна, — заявила непутевая мамаша.
— Возражений не имеется. Для купанья шампанское даже полезно. Так считали красотки, которых я купал.
— Вот хвастун!
— Стало, заметано? По рукам?
И у Есенина, как встарь, по-мальчишески заискрились глаза.
Мне припомнилась его великолепная строчка:
Что ж ты смотришь так синими брызгами?
Но глаза у Сережи были, как из нежного голубого ситца, выгоревшего на солнце.
— Назначаю крещение на четверток.
— Принято единогласно.
В эту минуту нежданно-негаданно раздался голосок — тихий, но несокрушимый:
— Этого безобразия я не допущу.
Есенин промычал:
— Гром из ясного неба!
Голосок принадлежал моей теще — маленькой старушке с грустными глазами, всегда чуть-чуть испуганными. Кто напугал их? Что?… Вероятно, жизнь. Она ведь такая: ох, как напугать может!