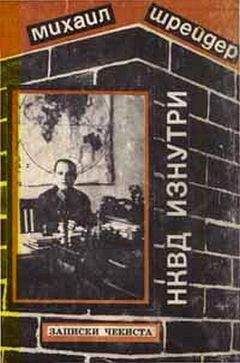— Ну что ж, брат, ваше дело, видимо, конченое, — напутствовал меня Мирзоян. — Встретимся на том свете!..[56]
Через несколько часов я попал в общую камеру Бутырской тюрьмы. Как и прежде, камера была битком набита арестованными, но уже были введены кое-какие послабления и новшества. Арестованным разрешалось играть в шашки и шахматы, разрешалось получать вещевые передачи.
Как я уже упоминал, во времена Ежова в камерах не было почти никакого медицинского обслуживания. Из камер выволакивали только тех, кто в полном смысле слова умирал. Никакие жалобы ни на какие боли во внимание не принимались.
Теперь же Берия, видимо, желая на первых порах создать себе некую популярность, распорядился улучшить обслуживание арестованных. Ежедневно производился обход камер фельдшерицами. Открывалась форточка камерной двери, и вахтер спрашивал: «Есть больные? Подходи!» И в камере выстраивалась очередь желающих обратиться за медицинской помощью. Одни жаловались на головные боли. Этим фельдшерица собственноручно совала таблетку в рот и давала запить водой. (На руки таблетки на выдавались.) В камеру фельдшерица никогда не входила. Больных с высокой температурой и другими тяжелыми заболеваниями вахтеры выводили в коридор, где производился осмотр возле столика вахтера.
Когда жаловались на обострение геморроя, фельдшерица просила показать им геморрой. Тогда больной снимал штаны, а двое или трое заключенных приподнимали его так, чтобы голый зад находился прямо напротив форточки. Фельдшерица тут же оказывала «экстренную помощь», а именно: смазывала больное место йодом, от чего страдающий геморроем выл от нестерпимой боли. Несколько улучшилось в тот период и питание желудочных больных. Несколько таких больных, в том числе и я, стали получать кое-какое диетическое питание.
Наряду с некоторыми улучшениями с приходом к власти Берии были введены и некоторые особые строгости. Если раньше на допросы водили в сопровождении одного или двух вахтеров, то теперь их стало четверо. Выводя арестованного из камеры, два вахтера хватали его за обе руки, выворачивали их назад, а двое других сопровождали: один сзади, другой спереди. Причем во время следования на допрос, чтобы не столкнуться с другими арестованными, вахтеры подавали какие-то условные сигналы, то стукая ключом по пряжке пояса, то чмокая языком.
Первое время каждый арестованный, которого выводили таким образом, был убежден, что его ведут на расстрел, и, естественно, переживал сильное нервное потрясение. Но постепенно, узнав, что так стали водить всех, мы привыкли.
Позднее по камерам пошли слухи о том, что усиление конвоя при вождении арестованных было вызвано несколькими попытками к самоубийству. Рассказывали, что некоторые подследственные, сопровождаемые одним или двумя конвоирами, бросались с верхних этажей в лестничные клетки, а также на отопительные батареи, пытаясь разбить голову острыми краями калориферов. (От кого-то из арестованных я слышал, что пытался разбить голову о батареи и Н. И. Добродицкий.) Надо полагать, что слухи эти были обоснованными: вскоре во всех коридорах следственного корпуса отопительные батареи были закрыты специальными гладкими металлическими кожухами, а лестничные клетки затянуты решетками.
Новые товарищи по камере поинтересовались моим делом, и, когда я рассказал им, что был у Берии, а также о последнем допросе, меня, несмотря на мало обнадеживающий разговор с последним следователем, стали подбадривать, говоря, что раз меня перевели в Бутырку, то, наверное, скоро отпустят домой. И тут же многие наперебой стали шептать мне в уши свои домашние адреса, телефоны и т. п., чтобы я после выхода на свободу мог сообщить о них родным и близким.
Через два дня меня днем вызвали из камеры с вещами. Сначала я подумал, что, может быть, предсказания сокамерников подтверждаются и я выхожу на свободу. Но меня ждало горькое разочарование, когда после 30–40-минутной перевозки в «черном вороне» меня вывели из машины на Ярославском вокзале, надели наручники, как опасному уголовному преступнику, и после этого отвели в отдельный арестантский вагон.
Наутро вагон прибыл на станцию Ярославль. Меня в наручниках вывели из вагона на перрон, где пришлось довольно долго ждать, как оказалось, специальную машину. Мороз был очень сильный, а я был в легких сапогах и тонких носках, и у меня начали отмерзать ноги. Тогда конвоиры завели меня в пассажирский зал, очистили угол от публики, сняли с меня сапоги и начали растирать ноги. Он нестерпимой боли я чуть не кричал.
В этот момент мимо нас прошел мой бывший секретарь по управлению Ивановской областной милиции — Яковлев — в милицейской форме. Увидев меня, он побледнел и отвернулся.
Наконец прибыл ярославский «черный ворон», в который меня посадили и повезли.
Вскоре машина подъехала к зданию Ярославской городской тюрьмы, где я неоднократно бывал, проверяя, как содержатся крупные уголовные преступники.
В тюрьме принимал меня старик вахтер, оказавшийся бывшим проводником служебных собак, работавший ранее в Ярославской городской милиции и хорошо меня знавший. Обыскивая меня, он соболезнующе качал головой и как бы в оправдание говорил:
— Вот, перевели меня теперь сюда на работу. Приходится и такими вещами заниматься.
Когда закончились все формальности приема, он сказал:
— Есть приказ поместить вас в спецкамеру. Вы уж на меня не обижайтесь. Ведь от меня ничего не зависит.
Меня провели через коридор, напоминающий могильный склеп, и подвели к дверям, на которых висел огромный замок, как на складских помещениях. Сопровождающий меня дежурный большим ключом открыл замок, а затем вторым внутренним ключом открыл дверь, и я очутился в своем новом жилище.
Это была та самая камера, в которой содержался перед расстрелом пойманный в период моей работы в Иванове бандит Панов. Я никак не мог понять, зачем меня вообще привезли в Ярославль и помещают в камеру смертников.
В камере размером 3x3 метра не было ни нар, ни койки, одни голые каменные стены и такой же пол. Наверху маленькое зарешеченное окошечко без стекла, в которое свет почти не проникал, зато вовсю дул февральский студеный ветер. В углу камеры стояла доверху наполненная моими предшественниками параша.
За окном слышался лай собак. По-видимому, тюрьма снаружи охранялась овчарками.
Дежурный сухо сообщил, что три раза в день мне будут приносить пищу, закрыл дверь на замок, и я остался в полном одиночестве. В отличие от всех других тюрем здесь никто из вахтеров в коридоре не дежурил.
Один раз ужин мне принес новый вахтер в пограничной форме, видимо, недавно демобилизованный. Это был молодой брюнет, выше среднего роста, державшийся подтянуто, по-военному.