Вот другой эпизод, совсем уж поразительный. Как‑то, в 1935 году, я рылся в одной из папок Фаворского, в его рабочей комнате на Мясницкой. Просмотрев ее, взял другую. В. А. сказал: «Эту смотреть не стоит, там ничего нет, кроме уже использованной бумаги, которую я иногда беру, чтобы делать что‑то на обороте». Я сказал: «Я все‑таки посмотрю» — и через минуту извлек из этой папки не «использованную бумагу», а драгоценное сокровище — карандашный портрет Пушкина — лицеиста! В. А. полагал, что это всего лишь подготовительный рисунок, по которому он нарезал в двух вариантах маленькую гравюру для издаваемого издательством «Academia» собрания сочинений Пушкина очень маленького формата. Гравюра сделана, а рисунок больше не нужен! Но маленькая гравюра вышла малоудачной и совсем не интересной, а этот большой рисунок был одним из самых совершенных шедевров, когда- либо созданных Фаворским! Я, не стесняясь, возмутился таким легкомысленным отношением Фаворского к собственным творениям и забрал «Пушкина — лицеиста» у его безответственного создателя. Я поместил этот рисунок на самое почетное место на устроенной мной и Марией Зосимовной Холодовской в 1936 году выставке книжной иллюстрации за 5 лет — в центре абсиды Белого зала музея; я дал этот портрет к своей только что написанной статье о Фаворском в Большую советскую энциклопедию; я поместил его в устроенный мною зал «Пушкин в искусстве» на большой юбилейной выставке 1937 года, и он был воспроизведен в красивом каталоге этой выставки — словом, сколько смог, сделал этого прелестного «Пушкина — лицеиста» всем известным. Но это было широко подхвачено всеми, очень охотно. Когда пушкинская выставка переехала в Ленинград и была превращена в постоянный центральный Музей Пушкина, этому рисунку подобрали красивую широкую раму пушкинской поры с изящным золотым узором по белому фону — в таком торжественном виде рисунок прибыл в конце 1964 года на огромную выставку Фаворского в Музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Но никому не пришло в голову, что эта драгоценность принадлежит автору и надо бы приобрести ее у него, — не пришло в голову и Владимиру Андреевичу.
А если бы я тогда, в 1935 году, его послушался и не стал смотреть папку «использованной бумаги», годной лишь на то, чтобы иногда делать что‑нибудь на ее обороте?
Вот типичная сцена из повседневной жизни В. А. в его московской комнате. В. А. и Михаил Иванович Пиков сидят напротив друг друга за столом, приставленном короткой стороной к окну маленькой комнаты; у каждого кожаная подушечка, набитая конским волосом, и над ней на высокой подставке сильная лупа, и оба погружены в работу над какой‑то гравюрой. На топчане у двери (на котором на ночь стелилась постель) сидит Никита, старший сын Фаворского, очень талантливый художник, и с необычайной энергией и немалым шумом стругает деревянный чурбан, предназначенный для некой будущей скульптуры, и стружки летят по всей комнате, включая и стол Фаворского. Из недр квартиры раздается низкий бас Константина Николаевича Истомина: «Никита! Чайник уходит!», и Никита, швырнув чурбан, как бомба вылетает из комнаты. Владимир Андреевич поднял очки на лоб и, глядя вслед Никите, произнес: «Ну и темперамент!»
Я подумал, что Владимиру Андреевичу могли бы подобрать немного более удобные и спокойные условия для его высокого творчества. Но он об этом не думал до конца своей жизни. Когда я, уже в 50–е годы, приехал к нему в большой нелепый дом, построенный им вместе с тремя другими художниками где‑то в районе Перова, он пригласил меня в действительно, на сей раз, огромную и высоченную мастерскую и в дальнем ее уголке стал показывать мне свои новые гравюры на маленьком столике — я почти не слышал, что он говорит, из‑за дикого грохота: посреди мастерской два молодых скульптора с необыкновенным воодушевлением рубили гигантскую глыбу мрамора, и осколки летели по всей мастерской, прекрасно достигая и далекого маленького столика Владимира Андреевича. Не знаю, продолжал ли он находить это естественным и неизбежным. Я не посмел сказать ему, что у всякой скромности есть пределы.
Он всегда был окружен художниками, молодыми и совсем не молодыми, учениками истинными и мнимыми. Истинные ученики (в живописи или графике) воспринимали от него, в той или иной мере, силу и глубину его образного мышления, и я с глубокой благодарностью помяну имена таких художников: Дейнека, Пименов, Вильямс, Гончаров, Падалицын, Грозевский, Шпинель, Пиков, Ечеистов, Журов, Домогацкий, Никита Фаворский; после войны — Захаров, Голицын. Другие — старательные имитаторы внешних приемов Фаворского, даже прямые плагиаторы или просто совсем бездарные поклонники и (особенно) поклонницы, превращавшие свое почтение к Фаворскому в сектантство — были истинным стихийным бедствием, много навредившим Владимиру Андреевичу. По своей доброте он ни разу не решился разогнать эту назойливую и весьма агрессивную публику. Они до сих пор стараются заслонить собой Фаворского, стремясь (к счастью, неудачно) утвердить некие свои права на Фаворского. Совсем как было у Толстого и толстовцев, много лет назад!
Фаворский возвышается над всей этой суетой как подлинно великий мастер, который делает свое дело, не обращая внимания на дурное окружение.
Ровно так же он стал относиться к развязанной в конце тридцатых годов — в эпоху полного «цветения» «социалистического реализма» — не критике, а систематической травле его как «формалиста», враждебного этому самому «соцреализму». Эту дурную кампанию открыли в 1938 году P. C.Кауфман и Ф. С. Мальцева, напечатавшие в журнале «Искусство» погромную статью о Фаворском. Следом за тем инспекторша Комитета по делам искусств Герценберг (имени не помню) «освободила» Владимира Андреевича от преподавания в художественных учебных заведениях. В годы войны травля прервалась, но в удесятеренном виде возобновилась в конце сороковых годов, в пору полного господства в художественной жизни Александра Герасимова и его банды (господства, препорученного Александру Герасимову Сталиным и Ждановым). Хор продажных критиков, травивших Фаворского, «освободил» его от всякой возможности что‑либо зарабатывать. Какой‑нибудь Н. В. Ильин, очень много о себе понимавший главный художник Гослитиздата, только что заказавший иллюстрации нескольким совсем молодым художникам, с высоты своего величия мог небрежно бросить Фаворскому, дожидавшемуся в коридоре своей очереди к Ильину: «Для вас работы у меня нет». Фаворского очень выручила дочь Петра Петровича Кончаловского, Наталия Петровна, поэтесса, добившаяся в Детиздате, чтобы именно Фаворскому были заказаны рисунки к трем книжкам ее стихов о Москве — «Наша древняя столица». Какое бы ни было качество этих стихов — Наталия Петровна спасла Фаворского от голода.
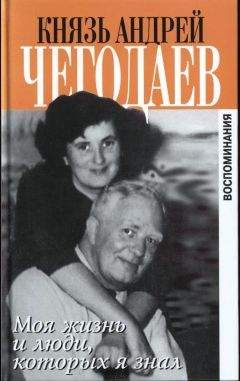
![Юлия Кулинченко - От топота копыт [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)


