Фаворский возвышается над всей этой суетой как подлинно великий мастер, который делает свое дело, не обращая внимания на дурное окружение.
Ровно так же он стал относиться к развязанной в конце тридцатых годов — в эпоху полного «цветения» «социалистического реализма» — не критике, а систематической травле его как «формалиста», враждебного этому самому «соцреализму». Эту дурную кампанию открыли в 1938 году P. C.Кауфман и Ф. С. Мальцева, напечатавшие в журнале «Искусство» погромную статью о Фаворском. Следом за тем инспекторша Комитета по делам искусств Герценберг (имени не помню) «освободила» Владимира Андреевича от преподавания в художественных учебных заведениях. В годы войны травля прервалась, но в удесятеренном виде возобновилась в конце сороковых годов, в пору полного господства в художественной жизни Александра Герасимова и его банды (господства, препорученного Александру Герасимову Сталиным и Ждановым). Хор продажных критиков, травивших Фаворского, «освободил» его от всякой возможности что‑либо зарабатывать. Какой‑нибудь Н. В. Ильин, очень много о себе понимавший главный художник Гослитиздата, только что заказавший иллюстрации нескольким совсем молодым художникам, с высоты своего величия мог небрежно бросить Фаворскому, дожидавшемуся в коридоре своей очереди к Ильину: «Для вас работы у меня нет». Фаворского очень выручила дочь Петра Петровича Кончаловского, Наталия Петровна, поэтесса, добившаяся в Детиздате, чтобы именно Фаворскому были заказаны рисунки к трем книжкам ее стихов о Москве — «Наша древняя столица». Какое бы ни было качество этих стихов — Наталия Петровна спасла Фаворского от голода.
На эти рисунки грубую хулу посмел высказать Федор Модоров, дрянной художник и грязный проходимец, назначенный Александром Герасимовым директором Московского художественного института (после того, как в 1949 году оттуда были изгнаны С. Герасимов, Дейнека, Матвеев, Осмеркин, Лазарев).
Владимир Андреевич мог бы возмущаться, ожесточаться. Он этого не делал, совсем наоборот. Он ведь был не только великим художником, но и великим человеком. В день смерти Сталина мы с ним вместе шли куда‑то по московским улицам, и он сказал мне: «Мы все в ответе за то, что у нас было».
Я явно не смогу описать всех, даже самых интересных художников, ко мне приходивших — выберу лишь немногих самых ярких.
К таким безусловно относился Давид Петрович Штеренберг, в которого я прямо влюбился за его яркую оригинальность, причудливость, бесконечную доброту и приветливость. Он сыграл большую и важную роль в истории советского искусства первых лет после революции как председатель Изоотдела Наркомпроса, потом стал лидером ОСТа — самой передовой и прогрессивной художественной группировки 20–х годов. Он был прежде всего прекрасным живописцем — не зря же он в первые годы Октябрьской революции считался одним из главных «футуристов», как тогда вполне условно именовали и вполне реалистических художников, как Альтман, Матвеев или Анненков, и вполне условных, как Малевич, Татлин или Кандинский — попросту тех, кто первыми «пошли работать с большевиками». Штеренберг был «посередине» между крайностями такого «футуризма». В своем кажущемся примитивизме он был чем‑то близок Анри Руссо, но с очень тонким и глубоким чувством значительности мироздания в его великих и самых малых воплощениях. Величавые человеческие образы — «Старик» или «Аниська» — глубоко реалистические, полные достоинства и уважения к человеческой индивидуальности, освобожденные от всякого бытового окружения, с самым малым намеком на место действия (росток травы у ног старика, стол, данный сверху, за спиной девочки) — это подлинно гуманистическое обобщение человеческой жизни. А рядом преисполненные такого же глубокого уважения самые скромные явления обыкновенной повседневной жизни, поданные тоже сугубо индивидуально, возвышенные за пределы своей скромной сущности, — «Селедка», «Простокваша» и другие, где тоже убрано все будничное бытовое окружение. К такому же выразительному и многозначительному лаконизму Штеренберг прибегает и в своих офортах (с собирания которых для коллекции музея началось мое знакомство с Давидом Петровичем) — это прежде всего полные необычайного изящества букеты цветов. Штеренберг занимался и ксилографией — причудливы и остро выразительны гравюры к сказкам Киплинга. Но очень хорош был, прежде всего, сам Штеренберг: невысокий, скорее маленький. Очень некрасивый, но с сияющим добротой и умом лицом, он был просто обаятелен в своих быстро меняющихся выражениях лица, во всех движениях и речах. При всей своей доброте, он был глубоко принципиален и убежден как в своем искусстве, так и в своем поведении. Он достойно возглавлял ОСТ («Общество станковистов»), объединив в нем изысканный состав художников, очень разных и очень ярких — таких, как Дейнека, Купреянов, Тышлер, Пименов, Вильямс, Гончаров, Лабас, Нисский, Шифрин, Зернова. Каждый воплощал целый мир новых оригинальных, смелых, свободных от всякой мелочности и поверхностности поэтических образов.
Штеренберг мог с полной сердечностью восхищаться и удачей совсем чуждого ОСТу художника. Как‑то раз, взяв меня под руку, он ходил по устроенной где‑то в самом начале тридцатых годов выставке парижских акварелей Александра Герасимова. Когда мы обошли выставку, он с искренней радостью воскликнул: «Посмотрите, что делает земля Парижа!» Эта серия парижских акварелей действительно оказалась лучшим созданием художника, в самом ближайшем будущем наделенного властью преследовать всех «инакомыслящих» художников, хотя бы на шаг отступивших от позиций АХРа, совершенно выродившегося позднего передвижничества, пышно величавшегося «социалистическим реализмом».
С художниками, бывшими членами ОСТа, я познакомился (со всеми) на протяжении тридцатых годов, и многие из них стали моими близкими друзьями. Недолгой оказалась дружба с Андреем Гончаровым — он мне изменил, когда образовался непрошеный и незаконный «круг Фаворского», претендовавший на чисто сектантское владение Фаворским: не спрашивая на то его согласия, но весьма агрессивно пытавшийся отстранять от Фаворского всех неугодных этому «кругу» людей, в том числе и меня. После войны Гончаров стал позволять себе грубые выходки против меня, очень меня обижавшие. Им не место в этих воспоминаниях, но они стерли те мои добрые чувства к нему, которые я питал в начале тридцатых годов.
Гончаров сильно смутился, когда в 1970–е годы я показал ему еще до печати мои письма из Ленинграда, которые собрался публиковать: там есть такая строчка: «Я Гончарова люблю больше всех после Фаворского». В те времена у нас были очень дружеские отношения.
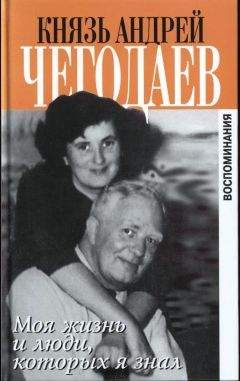
![Юлия Кулинченко - От топота копыт [СИ]](https://cdn.my-library.info/books/no-image-mybooks-club.jpg)


