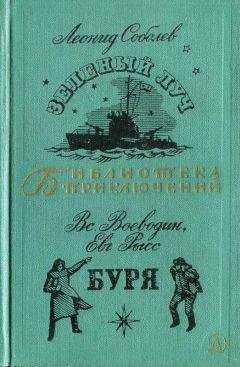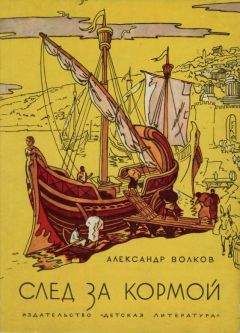Хазов помолчал.
- Не знаем мы, где их искать, не годится. А вот насчет другой шлюпки ты это верно.
- Что верно? - не понял Артюшин.
- Сходить катеру за ней в базу, вот что. Вполне до завтрашней ночи может обернуться.
- Так и я про то говорю.
- Про то, да не так. Плыть нам надо на катер, вот как.
Теперь помолчал, соображая, Артюшин.
- Так ведь тоже снесет, - возразил он наконец. - Хуже, чем шлюпку.
- А если против течения подняться, как ты говорил? Только не по воде, а по берегу. Быстро, и не устанем.
Артюшин опять помолчал, взвешивая его слова.
- Километра полтора пройти - тогда не пронесет. Вода вот холодна.
- Быстрей поплывем - согреемся.
- Это верно. Так решили, что ли?
- Видно, надо решать, - сказал Хазов.
- Обожди. Плыть недалеко - милю, да вода холодна. На шлюпке все же вернее. Давай еще подумаем.
Они посидели молча с минуту, перебирая в уме уже отвергнутые варианты и ища новые. Вдруг Артюшин засмеялся и хлопнул себя по коленке.
- Ну и головы!.. Чего тут думать: садись на руль, а я фалинь на плечо и рысью по берегу!
Он сказал это с такой веселой уверенностью, что Хазов невольно привстал на банке, собираясь пересесть на корму. Конечно, вернее всего было протащить шестерку вдоль берега на фалине - конце, которым привязывают шлюпку, подобно тому как ведут на бечеве лодку против течения. Это сохранило бы им и время, и силы, и самую шлюпку.
Но для этого требовалось, чтобы отлогий берег тянулся, по крайней мере, полтора километра. Между тем боцман, которого Решетников, по примеру Луникова, тотчас после ужина заставил хорошенько рассмотреть карту, помнил, что галечный пляж метров через пятьсот снова переходит в скалистый берег. Пройти там пешком было можно, но тащить за собой шлюпку на коротком фалине никак не удалось бы, и грести все равно пришлось бы минут сорок.
Все это боцман немногословно объяснил Артюшину. Тот молча выскочил из шлюпки.
- Куда ты? - спросил Хазов.
- Камней наберу, а ты пока оружие вытаскивай.
Оба взялись за дело, стараясь наверстать время, ушедшее на поиски выхода. В шлюпку для верности наложили камней, потом спрятали в скалах оба автомата, гранаты и компас, чтобы завтра, если все обойдется благополучно, захватить с собой на обратном пути. Масляную лампу Артюшин вынул из нактоуза и положил на гальку в бескозырке вместе с фонариком.
Хазов вывинтил чоп - пробку в днище, и вода журчащим фонтаном забила в шлюпку. Выскочив из шестерки, боцман сильным ударом столкнул ее на глубину под скалы.
- Как там время? - спросил он.
Артюшин зажег свой фонарик. На их военный совет, на переноску оружия и камней ушло двадцать четыре минуты.
- Долго провозились, - недовольно сказал Хазов и тут же двинулся широким шагом по берегу. - Пошли? Быстрей пойдем! И прогреемся и время наверстаем.
Артюшин подобрал бескозырку и компасную лампу и, почти бегом догнав боцмана, подладился ему в ногу и зашагал рядом. Галька, стуча, откатывалась из-под их подошв. Боцман действительно дал хороший ход, и скоро обоим стало тепло, потом жарко. Так они шли молча минут пять. Хазов увидел, что Артюшин несет что-то в руке.
- Ты что тащишь?
- Лампу взял из нактоуза.
- Фонаря тебе мало?
- Маслом намажемся. Я об одном проплыве читал, обязательно мазаться надо. От холода спасает. Плывешь, что в фуфайке.
Больше за все время этого стремительного хода по пустынному ночному берегу они ни о чем не говорили. Только хрустела и стучала галька, отмечая каждый их шаг. Порой она сменялась песком, плотно укатанным волнами, и тогда идти становилось легче, ноги упруго отталкивались от него, но затем опять вязли в сыпучей массе мелкой круглой гальки. Потом все чаще стали попадаться большие камни, которые приходилось обходить, чтобы не лезть по грудь в воду, потом берег стал обрывистым и раза три-четыре пришлось карабкаться на скалы. Они снова сменились отлогим галечным пляжем, и тут боцман остановился так же решительно, как начал этот ночной переход вдоль берега.
- Сколько прошли?
- Восемнадцать минут.
- Хватит?
- Ход был хороший. Километра полтора с гаком отхватили.
Хазов повернулся к Большой Медведице:
- Давай курс, штурман.
Они легко нашли Полярную звезду. Боцман стал лицом к ней, а Артюшин спиной к его спине. Выбрав среди звезд перед собой одну поярче, которая была градусов на двадцать левее, он показал ее Хазову.
- На нее и будем держать, запомни, лоцман. Ну, на старт, что ли? До чего же неохота, братцы... Холодна же, окаянная.
Они быстро разделись. Свежий ночной воздух охватил разгоряченные тела. Артюшин, разделив пополам масло, налил его на ладонь боцману и себе. От масла стало еще холоднее Но надо было связать одежду в узел, набить брюки галькой. В последний раз взглянув на часы, Артюшин отчаянным жестом далеко закинул в море фонарик, но часы оставил на руке, надеясь сам не зная на что.
Взяв узлы с одеждой, они вошли в воду, и вначале показалось, что в ней теплее, чем на воздухе. Дно быстро понижалось. Зайдя в море по грудь, они забросили вперед свои тяжелые узлы, и те сразу затонули.
Мягкая волна зыби оторвала их от песчаного дна, и они поплыли.
Артюшин легко нашел избранную им яркую звезду и повернул прямо на нее. Боцман, держась с левой его руки, поплыл рядом. И так же, как на шестерке, они, не уговариваясь, нашли общий, наивыгоднейший для обоих ритм, так и сейчас, проплыв минуту-две в некотором разнобое, то отставая, то перегоняя друг друга, оба вскоре широкими и свободными движениями поплыли - голова в голову.
Помогало ли артюшинское масло или в телах их был еще достаточный запас тепла, но первое время холод окружающей их воды почти не ощущался. Они плыли брассом, самым экономным и выгодным для далекого проплыва стилем, плыли не торопясь, сберегая силы. Несколько мешала зыбь. Она приподымала их - и тогда движения затруднялись, потом мягко опускала - и тут рукам было легче разгребать воду. Наконец оба приладились и к этому.
Монотонность плавательных движений убаюкивала. Ра-аз, два-три, - пауза. Ра-аз, два-три, - пауза... Сто, двести, тысячу раз... Казалось, думать о чем-нибудь было невозможно, кроме этого подчиняющего себе ритма. Однако Хазов думал.
Он думал все о том же, о чем думал почти всегда и отчего на лице его было то постоянное выражение сосредоточенности или, наоборот, рассеянности, которое обращало на себя внимание всякого, кто смотрел на него. Эта постоянная, неотвязная мысль никому не была известна. Он хранил ее в себе, не делясь ни с кем, потому что никто в целом мире не мог бы помочь ему ни дружеским, ни любовным словом утешения. Она была привычна ему, как дыхание, как биение сердца. И так же как без них он не мог бы жить, так и без этого воспоминания он не мог бы продолжать жизни. Он отлично понимал всю бесполезность этой мысли, всю беспомощность воспоминания, которое никогда не может восстановить прошлого. Но вместе с тем он боялся, что настанет время, когда постоянная эта неотвязная мысль покинет его, когда воспоминание, потускнев, исчезнет, и тогда Петр действительно умрет, действительно уйдет из его жизни.