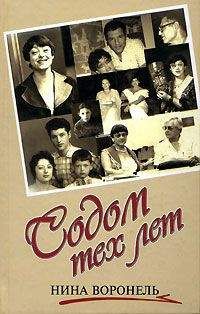«А что мы сейчас купили!» – хором воскликнули они и дружным слаженным движением задрали юбки. На них переливались изящным узором недоступные мне шерстяные колготки. Я молча посмотрела на Сашу – ни слова не говоря, он сунул руку в заветный карман, где лежала его зарплата, предназначенная для борьбы, и выдал мне запретные 12 рублей.
Наконец наступил день вынесения приговора. Я помню – его вынесли очень поздно вечером, мы стояли толпой у подъезда суда; вернее, было две толпы: одна – друзей, другая – гэбэшников, обряженных в одинаковые зимние шапки, выданные им в их ведомстве по случаю мороза. А мороз был воистину трескучий! Какие-то женщины, услыхав приговор, стали плакать в голос: «Ужас! – рыдали они. – Пять и семь лет лагерей!» А я не могла поверить: Боже, какое счастье, их не расстреляли!
Ко времени процесса в широких интеллигентских кругах успела произойти переоценка взглядов. Теперь Синявского и Даниэля никто уже не ругал, ими восхищались. И мы уже ощутили наше «мы», то есть что мы – группа: к суду приходили десятки людей, часто не знакомых ни с кем. Сразу после процесса начал стремительно меняться состав друзей. Из узкой кучки родилось движение, которое потом получило имя демократического. Оно состояло уже не только из друзей, даже не столько из друзей, сколько из товарищей по борьбе, – соратников, так сказать. У старых друзей это вызывало иногда горькое чувство заброшенности.
Новых соратников появилось так много, что когда через два с половиной года мы собрались в опустевшей квартире Даниэлей, чтобы отметить день рождения Юлика, мы вдруг почувствовали себя потерянными в огромной толпе малознакомых людей, для которых Юлик был не живым человеком, а условным символом, даже идолом. Я помню, как Тошка Якобсон позвал: «Братцы, старые друзья, пошли на кухню, попросту выпьем за Юльку! А то, я вижу, здесь уже собрался съезд демократического движения».
Ларисы в тот вечер в квартире не было, она уже была выслана в Сибирь за то, что в августе 1968-го организовала на Красной площади демонстрацию протеста против вторжения в Чехословакию.
Процесс перевернул всю ее жизнь. Ей была навязана процессом не вполне подходящая ей роль «верной подруги» Даниэля, и она отдала этой роли много сил. Она сделала больше, чем могла бы сделать любая другая женщина для своего бывшего мужа. Однако эта неестественная роль тяготила ее, а рамки, в которые старые друзья хотели бы ее втиснуть, были ей слишком узки. После процесса она стремилась вырваться и вырвалась – на простор демократической деятельности, куда не все друзья готовы были за ней следовать. Она сама превратилась в лидера и завела новых друзей, которые соответствовали этой ее новой жизни. Но это не обошлось без ссор, драматических скандалов, взаимных обид.
Так как Марья Синявская тогда, напротив, исполняла скромную – тоже очень ей несвойственную – роль преданной, на все готовой для своего мужа женщины, раскол пролег именно между ними. Два человека с разных сторон – И. Голомшток и Саша – долгое время пытались сгладить фундаментальное противоречие между двумя группами. Друзья Ларисы, увлекшись своей общественной ролью, несправедливо и жестоко поступали с Марьей. Я и сейчас не могу понять, как они могли тогда, в ее положении, подвергнуть ее такому незаслуженному остракизму. Этот случай был для нас с Сашей последней каплей, заставившей принять сторону Марьи, – а это непросто, принять сторону Марьи, ни одна черта ее характера к этому не располагает, – и отойти от диссидентской группы.
Пока речь шла о защите друзей, у всех у нас без исключения, даже у тех, кто чрезмерно упивался собственной ролью, не было сомнения, что дело это чистое. Но со временем Сашу все острее мучило ощущение, что мы переходим какую-то запретную черту и слишком близко подходим к бесовщине. Это чувство особенно укрепилось, когда ему на традиционных именинах Юлика за год до описанного выше случая довелось встретиться с П. Якиром и В. Красиным. Мрачный, хмуро-озабоченный Красин с карикатурно громадным портфелем и полупьяный (всегда полупьяный, когда не пьяный) Якир вызвали у него не только желание самому избежать любых контактов с ними, но и отвадить сына Даниэля Саню от общения с этими персонажами Достоевского.
Мы знали Саню с самого нежного детства – он бегал на лыжах с нашим сыном Володей, обсуждал с нами философские проблемы и однажды, глядя на Сашу огромными прозрачными серыми глазами, попросил: «Дядя Саша, составьте мне, пожалуйста, список вопросов, которые наука еще не решила, чтобы я знал, о чем мне думать…» Но его втянула возникшая вокруг его родителей общественная воронка, не давшая ему ни доучиться, ни осознать себя самостоятельным, отдельным человеком, выбирающим свой собственный путь.
Воронель потратил уйму времени, убеждая Саню, что ничего серьезного не содержится в разглагольствованиях Якира и что мальчику в семнадцать лет лучше заняться чем-нибудь другим. Но кто из семнадцатилетних когда-нибудь внимал разумным речам? Его жизнь сложилась не так, как планировалась, но кто может сегодня сказать, что он ее проиграл? Жаль, конечно, что он не решил всех нерешенных вопросов науки, но ведь не из-за пьянки или по лени, а ради благородного дела!
Не так просто отделить историю от тех, кто ее творит, как бы незначителен ни был каждый из них. Как-то, уже после суда над Андреем и Юликом, у памятника Пушкину проходила демонстрация в защиту Советской Конституции – первая в Союзе политическая демонстрация. Как только она началась, появились оперативники КГБ и стали швырять ее участников в подъехавшие воронки. Одна наша знакомая, следившая за этой сценой из подворотни, где ей велели прятаться, чтобы не скомпрометировать демонстрантов своим одиозным участием, воскликнула: «Боже! Как бы я уважала этих людей, если бы не знала их так хорошо!»
Но ведь они это уважение заслужили! А ее «знание» – это деталь ее биографии. И как прекрасно, что нашлись люди, – какие бы интимные детали из жизни этих людях мы ни знали, – которые вышли защищать обещанные Конституцией права человека, а через несколько лет – протестовать против оккупации Чехословакии, в защиту свободы. Они сделали честь своей стране! Ужасной, несчастной стране, где все молчали и никто не протестовал! По крайней мере, стало не так за нее стыдно! В этом был жест необыкновенный! И он всколыхнул весь мир – тогда мир еще можно было всколыхнуть благородным жестом.
Я думаю, что Сашино отталкивание от нарастающего демократического движения уже тогда имело более глубокий смысл, чем простое неприятие некоторых его участников. Похоже, Саша подсознательно уже начал ощущать, что это не его чашка чая. Несмотря на все его фокстерьерство и готовность участвовать в самых отчаянных предприятиях, Ларкины авантюры стали его все больше и больше отталкивать.