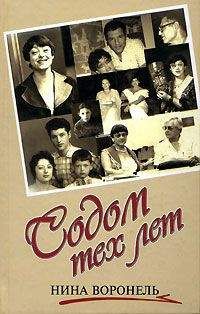Я думаю, что Сашино отталкивание от нарастающего демократического движения уже тогда имело более глубокий смысл, чем простое неприятие некоторых его участников. Похоже, Саша подсознательно уже начал ощущать, что это не его чашка чая. Несмотря на все его фокстерьерство и готовность участвовать в самых отчаянных предприятиях, Ларкины авантюры стали его все больше и больше отталкивать.
От этого расхождения между его общественным темпераментом, с одной стороны, и нежеланием участвовать в русском демократическом движении, с другой, он впал в тяжелую депрессию. Может, он почувствовал, что борьба за переделку России – дело безнадежное, а может, – начал прозревать, что это не его борьба. Он сформулировал это только к моменту написания книги «Трепет забот иудейских». А сначала он просто потерял покой и буквально стал сходить с ума, покрылся какой-то отвратной сыпью и лег на диван лицом к стене, отказываясь вставать, есть, разговаривать. Пока, наконец, где-то к концу 69-го не сел писать книгу, пытаясь разобраться в себе самом. И все яснее понимая, что ему не по пути с группой Ларисы, и что Россия – не то место, где мы, евреи, должны прилагать свои силы. Лариса впоследствии решила это противоречие, принявши крещение, но мне такой вариант судьбы никогда не казался ни благородным, ни привлекательным.
Кто из нас прав – рассудит история, но одно можно сказать наверняка: то, что случилось с нами после процесса Синявского-Даниэля, в значительной степени было этим процессом стимулировано, – и наше возвращение к еврейству, и наше отчуждение от России. Вот что говорит об этом Саша:
«Своим сионизмом я тоже в какой-то степени обязан Синявскому. Его русская культура была гораздо выше нашей. Что ни говори, наша культура была нахватанной культурой разночинцев, способных все принять и все отвергнуть на основе чисто рациональных критериев, без всякой оглядки на традицию. Да и традицию мы могли выбирать по произволу, не помня родства. Именно Андрей показал мне, что культура может быть подлинной, только если она глубоко укоренена. А происхождение свое и веру не выбирают. Андрей был филосемит, я не ощущал в нем никаких признаков недоброжелательства, и, тем не менее, он ясно давал почувствовать, что еврей может существовать в культуре только в том случае, если он твердо ощущает себя евреем. Быть русским я с ним не мог. Это не значит, что на евреев он смотрел свысока – наоборот, за нами он полагал наследие еще более древнее и этим еще тогда провоцировал нас – во всяком случае, меня – на сионизм. Потому что в его лице я, будучи еще очень молодым, впервые встретил человека глубокой и укорененной культуры. И понял, что у меня есть культурная перспектива только в том случае, если и я четко осознаю свои корни. То есть свое еврейство.
Синявский, в отличие от многих из нас, – был как раз человеком с корнями. Он иногда упоминал свое дворянское происхождение и всегда подчеркивал, что у него есть наследие. Он принадлежал к тому слою русских интеллигентов, которые серьезно думают о судьбах своей страны, хоть всегда стоял в стороне от всяких общественных дел. Он ощущал свое призвание и самоценность. Даже ведущим советским критикам и литераторам льстило знакомство с ним. И ему нравилось быть двуликим – в нем жил и ведущий советский литературовед Андрей Синявский, и потаенный, издевающийся осквернитель святынь Абрашка Терц.
Потому что он был скрытый игрок, – ему нравилось, что он водит за нос советскую власть, которая никак не может его поймать. Не может, хоть из кожи лезет – ловит.
Благодаря этой ловле он острее чувствовал свою значительность. Я помню, как циничная Марья сказала Игорю Голомштоку, намылившемуся уехать из СССР:
«Ну, кому вы там будете нужны, Голомшток? Здесь вами хоть КГБ интересуется, а там – кто будет?»
Смешно, но она была права: советская власть создала совершенно уникальный тип отношений с людьми искусства. Все крупнейшие русские писатели того времени – Синявский, Зиновьев, Солженицын – были какой-то частью своего существа сращены с советской властью: они обманывали ее, высмеивали ее или «бодались» с нею. В этом смысле замечательная статья Синявского «Что такое социалистический реализм» все еще остается недооцененной. Ведь в ней – не только насмешка, но и хвалебный гимн власти, которая ценит искусство, слово, выше жизни и реальности».
Так привычно стало говорить – Синявский и Даниэль, Юлик и Андрей, яблоко и груша. А ведь они были очень разные люди, друг на друга совершенно непохожие. Мне трудно разложить их по полочкам – у меня с ними связана добрая половина жизни. Но кое-что сказать можно. Синявский был значительней, загадочней, а Даниэль по-человечески проще и ближе, он был един – и как наш друг Юлик Даниэль, и как писатель, скрывшийся за псевдонимом Николай Аржак. Его никто никогда не обвинял в двоедушии. Он как слыл диссидентом, так диссидентом и выявился. Не то, что Синявский, который многим представителям официальной литературы в жизни казался своим, а в писаниях оказался чужим.
Андрей был куда трезвее Юлика, он, конечно, понимал значение того, что они делали, а Юлик, натура артистическая, был просто увлечен процессом. Он всегда был парень лихой и беспечный, жил от руки ко рту, не заботясь о завтрашнем дне. А Синявского, помимо могучего творческого импульса, снедала мысль о своей слишком успешной карьере ведущего советского критика, что в других было ему отвратительно. Вот он и утешал свою совесть, показывая при этом властям кукиш в кармане. Это очень в его характере, в этом он весь – бес лукавый. Ну, а кроме того, у него в руках был ключ к проблеме – его особые отношения с Элен Замойской, дочерью французского дипломата, то есть прямой и надежный выход в мир иной, на Запад. Никому тогда еще в голову такое не приходило, все писали в стол, кроме тех, кто служил Советской власти. А он парил и над теми, и над этими, у него был верный канал, и он знал, для чего пишет, – он писал, чтобы напечататься за границей.
В Синявском было нечто от героя «Бесов» Достоевского – Ставрогина. Он выдвинул множество идей, которые потом расхватали другие люди. Например, многое из того, что потом приписывалось П. Палиевскому, идеологу современного русского национализма, мы слышали от Синявского еще в начале 60-х. И с этими идеями в нем прекрасно уживалась ставрогинская способность играть людьми, их чувствами и убеждениями. Мне порой кажется, что и Юликом он играл, заманивал, завлекал в сети приманкой славы. Не для чего-то конкретного, а так, для удовольствия поиграть.
Его ничуть не смущало, если он сам себе противоречил. Помню, я как-то прочитала ему свою короткую пьесу «Змей едучий», – реалистическую до абсурда картинку русской жизни. Выслушав меня, он возмутился и продекламировал, насколько мог, зычно: