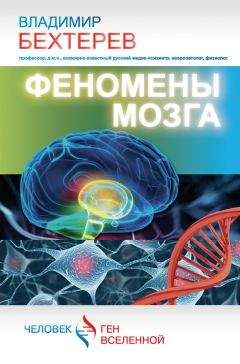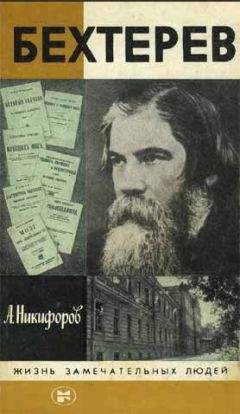сменить и компромат собирают, ничего не понятно. Даже я в удивлении. А мы с Абакумовым, сам знаешь, давно работаем и менять его я бы не хотел…
— А никто, по-моему, и не собирается, — удивился Чудов. — Во всяком случае, из райкома по этому поводу ко мне не приходили, а если и придут, я буду против. Так что не волнуйся, и пусть он работает спокойно.
— Вот и хорошо! Мне, собственно, это и хотелось выяснить, а все остальное… — Лидак шумно вздохнул. — Все эти закулисные шепотки, звоночки, интриги меня не волнуют!
— А что за интриги? — поинтересовался Чудов.
— Даже не хочется рассказывать! — поморщившись, отмахнулся Лидак. — Ну был у нас один слесарь-механик, управдом, конторщик, строгальщик, инспектор, не поймешь, кто он по профессии. Везде успел отличиться, только не в том смысле. Вот и захотелось ему попасть в историки. И попал с вашей легкой руки! Завсектором культпропа официальную бумагу мне прислал, а до этого звонил, уговаривал, я согласился, взял. Лентяй страшный! Но мало этого! Склочник, доноситель, казуист! Он меня взялся учить, как надо работать со статьями товарища Сталина. И не только учить, а уличать в неверной политической линии, которую я провожу со своими сотрудниками! Ты видишь, куда он стал гнуть?! А у самого четыре класса образования и часовая мастерская. Потом вот эти все заводские да бюрократические университеты! Видел бы ты его, до чего гнусный тип даже внешне! Коротышка, метр пятьдесят, сладковатое дегенеративное лицо с большим лбом, как у слабоумных, длинные руки, которые он не знает куда девать, да при этом еще горбится, зришь картину явления для наших умов?! Профессор Стриженский подходит ко мне и спрашивает: Отто Августович, вот э т о что за историческая величина? У него же на лбу написано, что идиот! А если он, просидев года три в инструкторах, заведующим комиссией станет и начнет с в о ю политику диктовать? Вас же посадят!» Ну, Стриженского вы знаете! — рассмеялся Лидак. — Э т о что за историческая величина?!
Улыбался, щуря маленькие глазки, и Чудов.
— Я конечно же понял, что за «величину» взял, и при первом удобном случае решил от него избавиться. А тут объявили паргмобилизацию на транспорт, он был слесарем-механиком, вот, думаю, пусть и поднимает транспорт. Так этот Спиноза запротестовал, начал кричать, что он самый толковый и полезный работник, а все остальные неучи и лодыри. Ну, тут наши как взвились и мигом его из партии вычистили, а я, естественно, уволил из штата. А сегодня в райкоме его восстановили! И Абакумову его приятель Мельников говорит: Чудов звонил, очень просил!
Чудов сделал недоуменное лицо.
— Да я знаю, что ты не мог звонить! Это все ваши культпроповцы! — подсказал Лидак. — Надо давно поставить их на место! Это просто непорядочно в конце концов!
— Подожди, а как фамилия твоего слесаря-механика?
— Николаев. Леонид Николаев…
Чудов выдержал паузу.
— Это я звонил, — твердо сказал он. — Да, я просил за него.
Лидак несколько секунд непонимающе смотрел на Чудова.
— Позволь, Михаил Семеныч, но почему?
— Так надо, Отто Августович, — еле заметная улыбка промелькнула на лице Чудова. — Ты меня знаешь, я вообще не люблю заниматься подобными вещами и… — Чудов запнулся. — Но тут совсем другая ситуация.
Чудов не мог сказать даже Лидаку, что просьба о Николаеве исходила от Кирова, что Николаев был мужем Мильды Драуле, с которой у Кирова вот уже пятый год длился бурный роман и, наверное, больше, чем роман, это была настоящая любовь, и Чудов свято хранил эту тайну личной жизни человека, которого он искренне по-мужски любил, не посвящая в эти интимные подробности даже свою жену, Людмилу Кузьминичну, генерала всей парфюмерной промышленности Ленинграда, от которой никогда ничего не таил да и скрывать от нее что-либо было просто невозможно. Нет, она знала о связи Кирова с Мильдой, когда последняя еще работала в обкоме. Тогда об этом все говорили, и Чудов упросил Кирова перевести Драуле в другую организацию, дабы покончить со сплетнями. Сергей Миронович внял его доводам и даже резко сменил тему околообкомовских сплетен, сблизившись поначалу с одной московской журналисткой, а потом с балериной. И о Мильде судачить перестали. Во всяком случае, жена об этом не говорила, а по ней можно было сверять осведомленность местной чиновничьей верхушки о внутренней жизни партийного центра.
Поэтому, когда Киров попросил помочь этому несчастному мужу Мильды, Чудов сделал это беспрекословно, понимая, что Сергею Мироновичу самому ввязываться в это просто нельзя. Как говорят, жена Цезаря должна быть вне подозрений.
Михаил Семенович вспомнил разговор с Кировым в поезде, когда они возвращались еще со съезда. Первый долго не мог решиться заговорить на эту тему, но Чудов видел, что его что-то мучает, и впрямую спросил об этом. Киров пересказал разговор со Сталиным относительно Мильды.
— Мы тогда были с тобой вдвоем, — заметил Киров. — Как мог узнать Коба?
— Я даже жене об этом не говорил, клянусь партийным билетом, Сергей, — побледнев, выговорил Чудов. — И уж тем более ни с кем из аппарата или управленцев. Хотя некоторые интересовались.
— Кто? — спросил Киров.
— Райхман, наш начальник контрразведки.
— А что его интересовало?
— На одной из конференций во время перерыва мы пили чай в гостевой комнате, он подсел, о чем-то мы заговорили, а потом он спросил, нет, даже не так, просто бросил фразу, типа того, мол, молодец, что уговорил Сергея Мироновича перевести Мильду к Пылаеву. Я сделал удивленное лицо, даже спросил: кто такая Мильда? Он засмеялся и ничего больше не сказал. Я хотел было тебе рассказать, но потом подумал: а что, собственно, пересказывать, если об этом даже в твоем секретариате сплетничали, естественно, он знал. А уж кто, когда, чего, это не имело значения.
— Да, это действительно выеденного яйца не стоит, меня другое беспокоит: если они передают Кобе только эти сплетни, тогда одно, но если кабинет можно откуда-то прослушивать, то это никуда не годится.
— Надо еще раз проверить, только и всего, — сказал Чудов.
— Найди мне акустика со стороны и как-нибудь ночью приведи его, пусть обследует, — попросил Киров.
Через несколько дней Чудов нашел одного морского офицера, который считался одним из лучших спецов