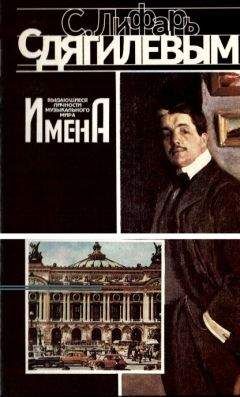В ту пору мой дед, почуяв новейшие веяния времени, решил модернизировать хозяйство. Он раздобыл немецкие машины, первые в наших краях, и соседние хозяева брали их взаймы, как прежде лошадей и волов. Каждый раз, когда мы приезжали на каникулы, нам было чем восхищаться. Двенадцать дядей и четыре тёти образовали «взрослый коллектив», содействовавший нашим ребяческим усладам. Я ещё помню, как четыре молоденькие служанки делали прически моим тётям перед каким-то праздником.
Вот в каком окружении я познал, без сомнения, самые живые чувства ребёнка и запечатлел в сердце навечно образы моей страны: громадную равнину, бескрайние поля ржи, усеянные васильками и дикими маками, и чувство легкой грусти на склоне дня, когда я слышал, как поют девушки, возвращаясь с полей. И вечером после ужина всё ещё звучали молодые голоса, отдаваясь далеко за полночь. Я подолгу сидел неподвижно, слушая их, а сердце полнилось страстью, робко искавшей ответа.
А жизнь леса, с тишиной и шумом вперемежку, открытая мной в те времена! А ветер на равнине! А запахи, к которым я был особенно чуток, запахи, возникавшие от малейшего ветерка: мёд, липа, полевые цветы — этот букет я ощущаю и теперь. А необъятность земли, которая давала мне почувствовать могучее дыхание зверей из древнего эпоса.
Одно исключительное обстоятельство закрепило во мне эти чувства в сверхъестественном освещении. Однажды за мной пришёл отец. Он отнёс меня на балкон, где уже находилась мать с братом Леонидом, и показал на небо с тысячами звезд. И хотя мне ничего не сказали, я вскоре увидел точку, большую, чем другие, которая пересекала небосвод, сопровождаемая сверкающим шлейфом. Внезапный трепет, что-то вроде священного ужаса, охватил меня. Все мы замерли в молчании. На других балконах, внизу перед домом, под верандой стояли все — хозяева и слуги. Вдалеке выла собака. Мне было пять лет, я помню, как испугался, словно ощутил страх самой земли, деревьев, животных и людей. Панический ужас, если таковой существует, исходивший от земли, но предвещавший, однако, некую иную реальность, уже неземную. Звезда исчезла, закончив путь за сосновыми и дубовыми лесами, погруженными на горизонте в ночную тьму. Гораздо позднее я узнал, что присутствовал при прохождении кометы Галлея. Её следующее появление ожидалось в 1986 году. Порой мне кажется, что я наверняка её ещё увижу.
Я часто думал об этом видении. Даже по возвращении в Киев. Вскоре одно обстоятельство помогло сохранить это воспоминание. Я стал участником гимназического хора. В моём детском голосе обнаружили такую чистоту, что доверили петь соло. С тех пор я часто пел в Софийском соборе во время церемоний. Мой голос летел без усилий, и мне казалось, что я парю под почтенными сводами рядом с фресками XII и XIII столетий. Я словно планировал в клубах ладана и золотом сиянии икон. И думал о моей звезде над бескрайними лесами. Я был счастлив в эти минуты. И одинок. Я уже подозревал тогда, что возле меня присутствует фея, которая будет сопровождать всю жизнь: фея великодушная, фея дарующая. Но эта фея и мучает, и терзает — пропорционально своему великодушию.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Смерть и любовь
Я вспоминаю альбом, предназначенный для подростков, который увидел позднее, гораздо позднее, когда уже был во Франции. Мне врезалось в память впечатление, произведенное им, чувство тревоги, связанное с мыслью о судьбе целого поколения. Этот альбом представлял собой серию незатейливо раскрашенных картинок, изображавших сценки повседневной жизни: вечер в гостиной с зажжёнными лампами, возвращение с охоты, мирный семейный быт. Внизу вы читали простенькое слово «до». Затем нужно было наложить на картинку подвижную створку, изменявшую только центр композиции, нижняя и верхняя части при этом оставались прежними. В результате в одну секунду вы переносились из одного мира в другой. Портянки счастливого охотника, показывавшего добычу окружившей его семье, вмиг превращались в обмотки бойца, оставшегося без защиты в своем разрушенном, опустевшем обиталище. Дым очага, поднимавшийся в небо, теперь клубился над развалинами. Гусеницы трактора оборачивались гусеницами танка, крушившего былое счастье. Внизу этой новой картинки было написано новое слово — «после». По таким изображениям дети узнавали, что такое война. До — после: наивное счастье детства с той поры тоже превращалось в руины.
Именно так случилось со мной. Я говорил, что моё детство было счастливым. В августе 1914-го рука судьбы опустила створку: картинка осталась прежней, но вся композиция внезапно перевернулась. Война... Достаточно было этого слова, чтобы все краски жизни переменились. На наши беззаботные досуги опустилась тень. Над нашими радостными днями нависла угроза с ещё незнакомым ликом. О! Совсем не сразу это стало трагедией. Неизвестность даже придавала некий новый привкус нашим забавам. Словно для того, чтобы подчеркнуть то, что должно было совершиться, мы научились окрашивать наш стыдливый страх в тона экзальтации и энтузиазма. Война была для нас вначале вызовом, зрелищем, порывом, средством убежать от будничной повседневности. И поскольку, как позже сказал писатель Селин, сущность войны в том, чтобы перебираться в деревню, мобилизация казалась поначалу детской душе чем-то вроде путешествия, огромного путешествия всей нации. Говорили, что нужно ехать, чтобы поддержать единство. Отъезд... Только это слово, повторенное тысячу раз, и звучало в ушах у меня — восхищённого и напуганного. В доме только и было — приготовления к отъезду и разлуке, укладывание вещей, слова прощания, великого прощания. В этих словах смешивались зависть и опасения, как и бывает перед долгой дорогой. Впрочем, никто не сомневался, что война будет короткой. «Кампания» — это двусмысленное слово было тому желанным подтверждением,— а потом армии должны с победой вернуться домой, к родным очагам. Мои двенадцать дядей отбывали в свои полки, и можно представить шум, произведенный этим в доме. А военная форма! Сколько я себя помню, я всегда имел особый вкус к форме. За год до описываемых событий мой возраст позволил мне наконец носить форменную одежду и фуражку со знаком Александровской гимназии, выбитым на двуглавом орле, поддерживающем царскую корону. Но насколько же прекрасней была военная форма моих дядей — артиллеристов, кавалеристов, пехотинцев! В мечтах я видел себя в мундире с эполетами, украшенными инициалом «К I», и с воротником с золотистой каемкой — таким был мундир первого кадетского корпуса. Я видел себя кавалеристом, бешено несущимся на белой лошади впереди эскадрона, который веду в атаку. Война напоминала нам приключения в мире индейцев, о которых нам так часто читала по вечерам мать, а мы с бьющимися сердцами различали в пламени камина размалеванные краской лица воинственных обитателей прерий.