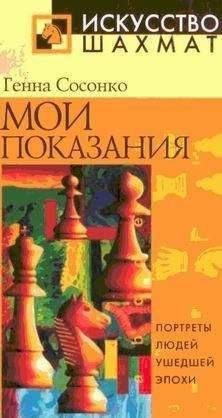Но и без Набокова и Цвейга в шахматах вчерашнего и сегодняшнего дня среди такого рода людей можно без труда найти гениев или несостоявшихся гениев. «Первые шаги Торре именно таковы, какими они бывают у будущих чемпионов мира», — писал Ласкер в начале карьеры Карлоса Торре (1905-1978), редкостно одаренного мексиканского шахматиста, который в совсем молодом возрасте был вынужден оставить шахматы и провести остаток жизни в психиатрической лечебнице. Югославский гроссмейстер Альбин Планинц, манерой игры так напоминавший Таля, сверкающим метеоритом пронесся по шахматному небосклону конца 60-х - начала 70-х годов. И его карьера оказалась недолгой: вследствие тяжелого психического заболевания он тоже должен был оставить шахматы и стать постоянным пациентом специальной клиники.
Но где граница здравого смысла, разума, нормальности? Четкие ориентиры здесь разметить нельзя, и нередко речь идет о пограничных областях, в зарослях которых могут заблудиться и сами психиатры - профессия, где психические отклонения встречаются чаще всего. Владимир Набоков, по собственному признанию, с особым удовольствием составлявший «задачи-самоубийцы, где белые заставляют черных выиграть», полагал: «Да, Фишер - странный человек, но нет ничего ненормального в том, что игрок в шахматы ненормален, это нормально. Возьмем случай Рубинштейна, известного игрока начала века, которого каждый день карета «скорой помощи» доставляла из сумасшедшего дома, где он находился постоянно, в кафе, где он играл, а затем отвозила обратно в его мрачную клетушку. Он не любил смотреть на своего противника, но пустой стул за шахматной доской раздражал его еще больше. Поэтому перед ним ставили зеркало, где он видел свое отражение, а может быть, и настоящего Рубинштейна».
В годы своих триумфов великий Акиба любил сидеть за доской вполоборота, как бы отстраняясь от соперника и играя только свою партию. С годами эта манера приобрела еще более выраженный характер. «В последние два-три года своей карьеры, — вспоминал Алехин, — он, сделав ход, сразу же буквально убегал от шахматной доски, сидел где-нибудь в углу турнирного зала и возвращался к доске лишь после того, как его соперник делал ответный ход. Свое поведение он сам объяснял так: "Чтобы не поддаваться влиянию соперника"». Не тот же ли мотив отстранения от других и защиты своего хрупкого «я» слышится в его ответе Алехину, спросившему Рубинштейна, почему он не применил в дебюте более сильного — его, алехинского, хода: «Но это не мой ход». Или в словах: «Завтра я играю против белых фигур» — в ответ на вопрос об имени соперника в предстоящем туре. И когда вообще начались для Рубинштейна приготовления к тому походу, который привел его в брюссельскую клинику, окончательно отделив от тех, кто взял на себя смелость считать себя нормальными и держать его взаперти.
Сиделка клиники мадам Рубин-Циммер вспоминала: «Он человек необычайно спокойный и владеющий собой. С ним легко — физически он исключительно крепок и для своего возраста очень здоров. Однако время от времени он бывает странен. Целыми днями не выходит из комнаты даже на короткую прогулку или иногда по вечерам не хочет ложиться спать. Тогда он сидит в кресле возле кровати и о чем-то глубоко размышляет или передвигает фигурки карманных шахмат».
Мы не знаем, как протекали уроки, которые брал молодой О'Келли, приезжая в клинику к прославленному маэстро, но таким ли уж препятствием являлся душевный недуг Рубинштейна? О чем думал он, когда уже в самый последний период своего заключения долго сидел перед шахматной доской с фигурами, расставленными в начальном положении, делая иногда ход 1.с2-с4, и, возвратив пешку после получасового раздумья назад, снова смотрел на доску? Какая разгадка тайны начальной позиции мерещилась ему?
Трудно сказать, как сложилась бы жизнь нервного и впечатлительного юноши, если бы он, с блеском окончив университет, построил бы ее согласно записи в дипломе: «Пол Чарлз Морфи, эсквайр, имеет право практиковать в качестве адвоката на всей территории Соединенных Штатов». Шахматный мир потерял бы одного из своих величайших гениев, но, быть может, тот не провел бы последние двадцать лет жизни в состоянии тяжелого психического расстройства.
Первый чемпион мира Вильгельм Стейниц, кончивший жизнь в сумасшедшем доме, писал: «Шахматы не для слабых духом, они поглощают человека целиком. Чтобы постичь глубину этой игры, он отдает себя в рабство...» Добровольное сладкое рабство было само собой разумеющимся и для одного из самых выдающихся игроков прошлого века Роберта Фишера, искренне удивлявшегося: «А чем же еще?» — в ответ на вопрос интервьюера, чем он занимается помимо шахмат, и объяснявшего свои победы: «Я отдаю девяносто восемь процентов моей ментальной энергии шахматам. Остальные отдают только два». Но так ли уж нужны эти два процента ментальной энергии, остающиеся от шахмат? Конечно, ему было с детства известно, что деньги - это хорошо, еще лучше, когда это выражается цифрой с шестью нулями. Но что делать с этими деньгами? С деньгами вообще? И в конце концов не всё ли равно, по улицам какого города — Нью-Йорка, Пасадены, Будапешта — бродить, опасаясь вездесущих журналистов и фотографов? Ведь тот другой — единственный! — шахматный мир всегда внутри тебя, в любое время дня и ночи и в любой точке земного шара.
Аристотель писал: «Из числа победителей на Олимпийских играх только двое или трое одерживали победы и мальчиками, и зрелыми мужами; Преждевременное напряжение подготовительных упражнений настолько истощает силы, что впоследствии, в зрелом возрасте, их почти никогда не хватает».
Полагаю, что тенденция, заметная в шахматах уже сегодня — достижение вершины и прохождение своего пика еще до тридцатилетия, — в будущем будет только усиливаться: слишком много нервной энергии было выплеснуто в период подготовки и борьбы в юные годы.
Даря радость творчества, а иногда призы и деньги, шахматы на самом высоком уровне требуют взамен пустяка — души.
В самый последний период жизни Витолиньш по-прежнему бывал в клубе почти каждый день, давая советы каждому, кто спрашивал его, играя блиц, анализируя часто допоздна. Иногда оставался там и ночевать. Всё еще держала его исступленная страсть анализа, длящаяся долгими часами, сутками, не различающая вчера и позавчера, с тем чтобы потом взять реванш долгим беспробудным сном, когда завтра переходит в послезавтра. Шахматы никогда не были для него забавой, и его жизнь в шахматах вне быта и повседневных забот и была его реальной жизнью. Он жил в них, как в добровольном гетто, и неуютно чувствовал себя за его воротами — в огромном, нереальном и зачастую враждебном мире. К тому же ему исполнилось пятьдесят, и в этой новой жесткой жизни он был и подавно уже никому не нужен. Материальное стало определяющим, и этот материальный, вещественный мир, к которому он всегда относился с опаской, грозно надвинулся на него. Алвиса уволили из шахматной федерации, где он работал тренером. Дело было, конечно, не в грошах, получаемых там, — рушились связи с миром. Он всегда был безразличен к тому, что ел и во что одет; пока были живы родители — это была их забота. Они умерли в течение одной недели, а в новогоднюю ночь 1997 года умер и врач-психиатр Эглитес, тоже шахматист, бесплатно лечивший Витолиныпа.