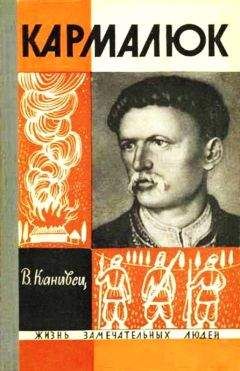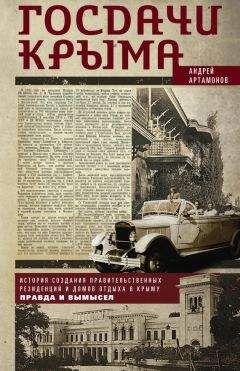Вступив в террористическую организацию, Желябов сошелся с Софьей Львовной Перовской. Еще на Липецком съезде Андрей Иванович "восхищал" Перовскую, хотя она тогда не соглашалась с ним и была завзятой народницей, отрицавшей "политику". Лев Тихомиров, утверждавший в своих воспоминаниях, что одно время он, Тихомиров, считался женихом Перовской, сообщает: самолюбивая, властная, с резко выраженной женской натурой, Софья Львовна всей душой полюбила Желябова и даже "стала его рабой и находилась в полном порабощении". Отзыв Тихомирова справедлив только в одном: Перовская, действительно, всем сердцем полюбила Андрея Ивановича.
Что известно об этой любви? Почти ничего. Не осталось никакой переписки; воспоминания современников сдержанны, скудны; такими они и должны быть о личной жизни у этих людей. Тут нечем поживиться повествователям и романистам. Все сокровенно, похоронено навеки, навсегда.
Ашешев называет Перовскую мужененавистницей; будто бы она считала женщин выше мужчин и щепетильно-ревниво относилась к достоинству женщины. Сердце ее было "забронировано от страстных увлечений, свойственных вообще людям". Желябов, однако, подчинил себе эту "мужененавистницу".
Прежде всего, очень сомнительно, чтобы Софья Львовна являлась мужененавистницей. Перовская, — это отмечает и Ашешев, — из последних сил, не жалея жизни, стремилась освободить товарищей-мужчин из каторжного заключения; неудачи переживались ею очень тяжело. Она была также в высшей степени заботлива к нуждам своих товарищей. Словом, незачем приписывать Андрею Ивановичу, будто только он помирил Софью Львовну с "сильным полом". Все это обывательские домыслы. Можно, однако, с уверен костью сказать, что, ломимо всего прочего, Желябова и Перовскую сильно сближала их общая тяга к пропаганде в народе; недаром они деятельно занимались в рабочих кружках я вместе хлопотали над "Рабочем газетой".
Это была сильная и горькая любовь. Перовская любила Желябова первой любовью, но и последней. Последней любовью любил Перовскую и Желябов. Оба были обречены, оба знали, что жить осталось, самое большее, месяцы. Оба каждый день, каждую ночь ждали развязки. Он приходил к ней пропахнувший динамитом. Она отдавала ему отчет в наблюдениях за выездами царя. Они глядели друг на друга и видели, как на очи спускалась тень смерти. Они были бестрепетны, они были бесстрашны, но кому ведомо, во что обходилось это бесстрашие, что было передумано и перечувствовано в минуты скорби и усталости. Эта, на вид крестьянская девушка, розовощекая, с русой косой, со светло-серыми глазами, с розовыми пальцами, скрытная, сдержанно-страстная, умела быть женственной и мягкой. Не случайно в ее облике так много детского, в этих нежных, припухлых щеках, в слабо и неопределенно очерченном подбородке, в ясном и чистом взгляде. Но ведь и он порой напоминал собою ребенка; так просто и заразительно он смеялся, как любил он подурачиться, похвалиться своей силой. Она отдавала террору свою любовь, отдавала мужа, возлюбленного, отца будущих детей, товарища, вожака партии. Он терял в ней жену, сестру, боевого, бесценного и нежно-сурового друга! У людей их закала, их эпохи любовь никогда не превращалась во всепоглощающее чувство; они не распускали павлиньи перья; не значит ли это, что им легко было бросить свою любовь палачам на расправу?! И. И. Попов сообщает:
— В конце 1880 г. на одной вечеринке я видел Желябова и Перовскую. Софья Львовна скромно сидела за чайным столом и тихо разговаривала с соседями по столу. Желябов, с темнорусой бородой, с длинными, густыми волосами, зачесанными назад, в вышитой украинской рубашке под пиджаком, принимал деятельное участие в танцах (плясали русскую) и пении. Я конечно, не знал их настоящих имен, но по отношению к ним окружающих чувствовал, что и Желябов и Перовская в партийной иерархии занимают высокие места… С Желябовым было связано представление, как о вожде… (И. И. Попов. — Минувшее и пережитое. Изд. "Академия", 1933 г.).
Он умел распоряжаться, приказывать, повелевать. Он посылал людей на смерть. Но он и сам умел подчиняться. Он шел навстречу смерти, рыл землю, проводил подкопы, соединял батареи, переносил типографские станки, шрифт. Он был — полководцем, готовым в любую минуту стать рядовым солдатом. Он соединял слово и дело, приказ и исполнение.
… Он крепко верил, что партия не умрет. Он говорил:
— Чего нам бояться? Не станет нас, найдутся на наше место другие.
Он верил в скорую победу над самодержавием. В письме к Драгоманову он писал:
— Правительству стало ясным положение его; все считают дни его сочтенными; нравственной поддержки ему не от кого ждать; только трусость, своекорыстие и неспособность к солидарному действию — в одних, да расхождение в понимании — ближайших задач между другими удерживают правительство от падения. Своевременно уступить под благовидным предлогом — таково требование политики; но не того хочет властолюбивый старик и, по слухам, его сын. Отсюда двойственность, колебание во внутренней политике. Б рас чете лишить революцию поддержки Лорис родит упования; но бессильный удовлетворить их, приведет лишь к пущему разочарованию. Какой удобный момент для подведения итогов! А между тем, все молчат; молчат, когда активное участие к делу резолюции всего обязательнее, к о г да д в а — т р и толчка, при общей поддержке, и правительство рухнет. От общества всегда дряблого много требовать нельзя; но русские революционеры, какой процент из них борется активно?…
Интересно услышать и узнать о нем обычное, совсем житейское. Н. К. Михайловский однажды рассказал о свадьбе Льва Тихомирова. Михайловский был приглашен в шаферы, надел даже фрак, взятый напрокат. Венчание происходило на Царицыном лугу в полковой церкви. Кроме Михайловского шаферами были Желябов, Ланганс, Иванчин-Писарев.
Ни писем, ни книг собственных, ни статей. Судебные показания, речь на суде, отрывок о детстве, одна передовая, одна записка — вот и все литературное наследство Желябова.
Нет ни одного воспоминания, написанного кем-нибудь тогда, до 1 марта, при жизни. Вспомнили спустя 25–30—40 лет; поневоле вспоминали сжато, скупо; Многое безвозвратно ушло, забылось.
Собираешь, соединяешь прочитанное, услышанное б нем в цельный образ, стараешься проникнуть в него не только умом, но и воображением — и вот что-то ускользает, что-то не удается в нем схватить, запечатлеть, освоить, сделать до конца понятным и близким. Есть в Желябове нечто сокровенное, что не поддается раскрытию. Это есть во всяком человеке, но в нем больше, ощутимее. И начинаешь понимать художника Маковского, который мучительно искал чего-то в лице Желябова, что-то хотел уловить в кем и не находил и не мог уловить… И потому все вновь и вновь возвращаешься к нему…