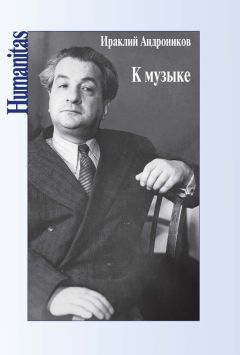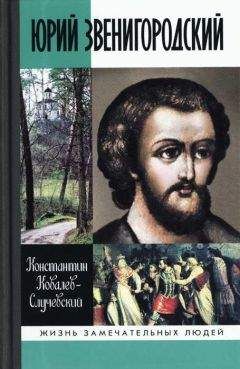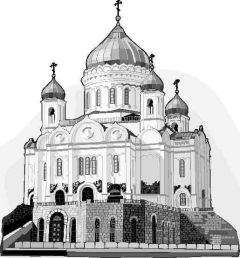Бортнянский искал и в лучших своих концертах находил синтез основных хоровых форм, основанных на передовых достижениях европейской культуры и базирующихся на величайших достижениях культуры российской. То была совершенно новая ступень в русской хоровой музыке. Композитор показал ту степень возможностей в использовании самых первоклассных форм в музыке России, которые позже смогут быть развиты М. И. Глинкой и его последователями. Национальные истоки в творчестве Бортнянского требуют еще широкого осмысления. Не так-то просто выявить их. Однако композитор предвосхитил тот вывод, который позднее сделает Глинка: «Я почти убежден, что можно связать фугу западную с условиями нашей музыки узами законного брака».
Бортнянский никогда не писал о своей напряженнейшей творческой работе, он никогда и не рассказывал о ней. Он просто работал. И это действительно была работа, которую он исполнял кропотливо, не требуя за нее наград и не выделяя из нее некоего возвышенного сладострастного состояния, которое иными биографами возводится в ранг «творческого переживания», «духовного взлета». Бортнянский жил тем, что он делал, выполнял свои обязанности и не спеша претворял свои замыслы.
Сделано же им было немало. Более 50 духовных хоровых концертов говорят сами за себя. Писались они на протяжении трех десятилетий. Ни один из них не датирован. Они почти вовсе не сохранились в автографах. Нет ни намека в воспоминаниях современников или в письмах окружающих его о том, как он создавал их, что думал при этом, что пытался передать. Но остался как неоспоримый факт поразительный результат плодотворного труда.
В каждой почти строке его концертов узнаются и поныне мелодии народных песен. Тут и известная «Вдоль по улице метелица метет», и легендарная в будущем «Камаринская», и украинские и русские песни, такие, как «Разве ты не знаешь, где моя хата», «Ехал казак за Дунай», «Ах ты, матушка, голова болит», «Взойду я на гору», и мелодии мазурок, и многое-многое другое. Результат такого синтеза был поразителен. Самые сведущие и изысканные знатоки европейской музыки, приезжие композиторы бывали потрясены услышанными хорами Бортнянского. Г. Берлиоз писал: «Эти произведения отмечены редким мастерством в обращении с хоровыми массами, дивным сочетанием оттенков, полнозвучностью гармоний и — что совершенно удивительно — необычайно свободным расположением голосов, великолепным презрением ко всем правилам, перед которыми преклонялись как предшественники, так и современники Бортнянского и в особенности итальянцы, чьим учеником он считался». Одновременно хоры Бортнянского были близки и доступны, понятны и душевно приемлемы для всех слоев населения. Их пели в деревнях и селах, в городах и в столицах. Однако при всей своей любви к народным мотивам Бортнянский сумел выказать главное свое достоинство, по словам современника, этим достоинством было его умение никогда не раздражать и не поражать слушающих, он никогда не ставил целью бездушное ублажение слуха без прямого воздействия на сердце.
Бортнянского привлекали поначалу четырехголосные и двухорные концерты. Пробуя свои силы в этом жанре, он постепенно набирал мастерства, переходил от торжественно-патетических мелодий к более сокровенным, лиричным. Он еще не спешил оторваться от партесных концертов и кантов, от гимнов, маршей и менуэтов. Более поздние сочинения совершенны по форме и содержанию. Они мелодичны и распевны, они задушевны и лиричны. Их поразительное воздействие заключалось в проникновенном понимании композитором текста, в знании им неких законов эмоциональной психологической сосредоточенности человека. Бортнянский как бы управлял этими законами, словно хороший психолог, он умело затрагивал наиболее чувствительные струны души, создавал порой полную иллюзию упокоения, умиротворенности, а порой и ощущение возвышенности, радости.
«Эмоциональность» концертов Бортнянского не была «специальным» бегством из области духовной в сферу душевных чувствований. Если учесть, что тенденция концертирования в духовной музыке, все большей светскости хоровых песнопений прогрессировала в России уже более чем столетие до его творчества, то уж никак нельзя обвинить композитора в намеренном опрощении материала, сознательном уходе от древних оригиналов. Скорее наоборот, используя сложившиеся формы музыкально-эстетического сознания, зная тенденции и направления развития хорового пения, Бортнянский спешит совершенствовать его внутренний смысл всеми доступными и понятными современникам средствами. «Душевность» сочиненных им концертов — его достоинство как композитора и отнюдь не недостаток, как пытались приписать его творчеству иные ревнители ушедшего из массового быта единогласия. Гораздо нелепее выглядели концерты иных, менее даровитых музыкантов, которые на низком уровне оперировали современными формами и пытались «присовокупить» к ним более древние, традиционные. Их сочинения не стали общепринятыми, не вошли в сокровищницу русского хоровогоискусства. Время, как всегда, выбирало свое. Видимо, Бортнянский шел на его гребне, он в хоровом творчестве выразил максимум того, на что был способен сам и на что могла подвигнуть его эпоха.
В своих лучших, поздних концертах, а особенно в 32-м и 33-м, он в музыкальной форме высказал самые сокровенные свои творческие идеи, выразил богатство своей души. Один из них начинается словами: «Вскую прискорбна еси душе моя? Вскую смущаеши мя?» В хоровом многоголосии повторяются грустные слова, в протяжном, тихом разговоре переплетаются в незримую мелодичную ткань голоса басов, теноров и дискантов. И кажется, будто там, в глубинных пластах души, зарождается неосознанное, протяженное томление. А голоса все повторяются, все ткут художнически задуманное полотно. И, наконец, сливаются в единое, громкое, вопросительное: «вскую прискорбна еси...», — на мгновение замирают и, вздрогнув, ниспадают в испуганное, бессильное — «душе моя»...
Другой концерт, названный «Скажи мне, Господи, кончину мою», — проникновенная песнь человека, осознающего глубокие тайны жизни и смерти. Это панихидное песнопение, названное позднее Петром Ильичем Чайковским «положительно прекрасным», многие десятилетия, вплоть до наших дней, будет поражать своим предельным совершенством. Воистину оно встанет в один ряд с шедеврами мировой культуры...
«В этой гармонической ткани слышались такие переплетения голосов, которые представлялись чем-то невероятным; слышались вздохи и какие-то неопределенные нежные звуки, подобные звукам, которые могут пригрезиться; время от времени раздавались интонации, по своей напряженности напоминающие крик души, способный пронзить сердце и прервать спершееся дыхание в груди. А вслед за тем все замирало в беспредельно-воздушном небесном decrescendo1». Эти слова также принадлежат знаменитому Гектору Берлиозу, который записал их в своем дневнике после того, как прослушал в бытность свою в Санкт-Петербурге в 1847 году один из хоровых концертов Бортнянского.