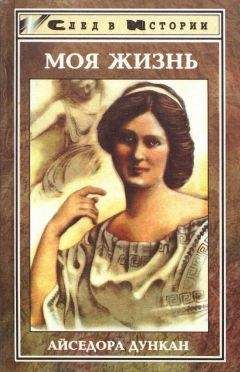Революцию он воспринял едва ли не только как бытовой беспорядок, мешающий свободному течению высоких помыслов и дел [097]. И он менее всех символистов пытался «освоить» новый, советский строй и интересовался им только с бытовой стороны. Его дальнейшее поведение всецело объясняется именно этой «эзотерической» позицией, им принятой, тогда как его коллеги по символизму реагировали в большинстве иначе. Брюсов, Блок и Белый открыто стали на сторону новой власти и принесли ей свои дары поэзии, что, впрочем, было мало оценено. В. Иванов был склонен рассматривать революцию как род стихийного бедствия, и надо было подумать лишь о том, как от этого бедствия избавиться. Сам, в сущности, выученик Западной Европы, проведший в ней всю первую половину жизни, человек высочайшей культуры – он немедленно стал искать «пути в Европу», и вся его советская жизнь была поисками этого пути – поисками, далеко не всегда удачными.
В начале советской власти мне приходилось с ним работать в разных новорожденных тогда «художественных учреждениях»: ему нужен был заработок – у него была семья.
Для советской аудитории тех годов его культурный уровень был слишком высок, и он не умел его достаточно снижать, да, видимо, и не хотел. Его язык был слишком изысканным для аудитории из полуграмотных. Я вовсе не хочу искажать моего вышеприведенного «иконописного» его портрета, но должен признать, что много было им понаделано в этом процессе своего «замышленного побега» и ненужного, и порой высококомичного, свидетельствующего о его полнейшей практической беспомощности, которая очень даже вяжется с «иконописным» моим портретом.
В порядке хлопот о получении права на выезд он, конечно, обратился ко всеобщему защитнику поэтов – литовскому посланнику Балтрушайтису. Тот его познакомил с Ольгой Давыдовной Каменевой, которая тоже понемногу входила в роль высокопоставленной государственной дамы. Вячеслав Иванов написал для нее «сонет», в котором сравнивал ее профиль с профилем Лукреции Борджиа. Сонет этот мне прочел раз Балтрушайтис. Не думаю, чтобы Ольга Давыдовна (имевшая зубоврачебное образование) ясно себе представляла Лукрецию Борджиа и наверное недоумевала, что это – ирония или комплимент? Но потом решила скорее счесть это за изысканный комплимент. Однако и «сонет» не помог – разрешения не давали. Я выразил Балтрушайтису мое недоумение, зачем, собственно говоря, надо было метать столь изысканный бисер для достижения практических целей, и вдобавок зря. Балтрушайтис мне ответил:
– Ты знаешь, ведь Вячеслав по природе своей должен был бы быть придворным поэтом».
Для этого ему дана и сладость, и вкрадчивость языка. Не его вина, что ему пришлось служить при таком… (следовало непечатное выражение) дворе.
И, помолчав добавил:
– Впрочем, и я сам при этом… дворе состою посланником…
Наконец препятствия были преодолены. Разрешение на выезд было дано [098]. Даны были и чрезвычайно высокие рекомендации от разных почтенных советских учреждений.
Но Иванов был все же в тревоге; он решил получить рекомендательные письма от университета, потому что ехал в Западную Европу и рекомендации советских инстанций там могли иметь разве отрицательные воздействия, особенно в те годы.
С этой целью он решил повидать тогдашнего (одного из последних «выборных») ректора Московского университета, моего коллегу П. Н. Сакулина. Об этом свидании мне рассказывал сам Сакулин, и этот рассказ чрезвычайно характерен и для практической неловкости нашего поэта, и для того, чтобы понять, как человек «слишком мудрый» и слишком ученый может наделать глупостей.
Сакулин мне рассказывал, что «Вячеслав начал с того. что заявил, что он находится в обладании массы рекомендаций, но только от советских учреждений, и что это его удручает. «Все эти рекомендации для меня суть как своего рода "pudenda"» (выразился он, как привык, по-латыни) [099], и что он хочет иметь рекомендации от Московского университета как от учреждения, сохранившего (тогда это было еще так) дозу независимости от властей.
– Я бы мог быть вам и университету полезен, – пояснил Иванов. – Я бы мог для примера рассказать, как героически ведет университет борьбу с властью за свою независимость…
Тут он заметил, что лицо Сакулина не выразило не только никакого восторга, но, напротив, явные признаки беспокойства. Надо помнить, что то были годы решительной и последней схватки университета с властью и что положение самого ректора Сакулина было более нежели неустойчивое (он был «выборный ректор», сторонник автономии и член партии народных социалистов, большевиками ненавидимой).
Заметив это, Вяч. Иванов продолжал совершенно спокойно:
– Ну, если вам это не подходит, я могу сделать там доклад о том, как университет успешно и плодотворно сотрудничает с новой властью…
Тут уже его прервал Сакулин:
– Вячеслав Иванович! Университет не есть фиговый листок для прикрывания ваших «pudenda»!
И аудиенция на этом оборвалась. Встретились два мира: политический и поэтический, друг другу чуждые и воспринимавшие события совершенно по-разному. Глубоко ученый и мудрый в своей области, Вяч. Иванов был по-детски наивен, когда касался тех вопросов, которые его никогда не интересовали или если интересовали, то абстрактно. На всякого мудреца довольно простоты – это необходимо для равновесия и справедливости.
Вскоре он уехал. В эти годы в его миросозерцании уже произошел последний и давно ожидавшийся сдвиг: он окончательно «избрал» Рим, но уже не античный, а католический Рим. Его «византийство» превратилось в «папство», что было совершенно естественно, так как он сам был гораздо более человеком западной культуры, нежели русской, по стилю и по генезису. Думаю, что скрытые симпатии к Риму у него были давно и только литературно заслонялись некоторыми построениями оккультического и гностического типа. В этом его духовный путь родственен пути многих выдающихся русских людей [100].
В группе символистов он играл роль в своем роде Державина, поэта пышности, величия и глубины (недаром Балтрушайтис его обозвал «придворным поэтом»), но он был бесконечно культурнее Державина, который вообще этим качеством не страдал. Я считаю, что его стихи, перенасыщенные словесными ароматами, всегда величественные и глубокие, всегда необычайно звучные и музыкальные, вращающиеся почти исключительно в мире высших духовных чувствований, – еще будут иметь «свой день».
Наши дни – дни измельчания чувств и ускорения темпов – противоречат самому ощущению величия. Надо, чтобы прошли сроки. Я лично считаю его одной из вершин русской «великой» поэзии, но признаю, что это – «музыка для немногих». Для меня лично это звучит не порицанием, а высшей похвалой.