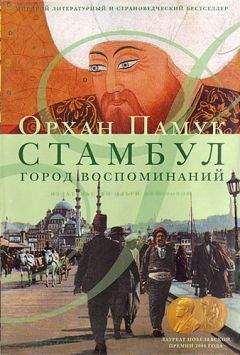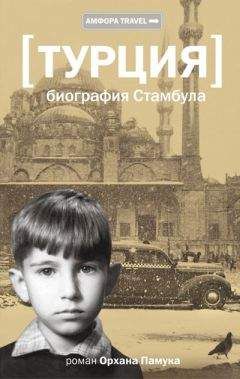Часто, завершая картину, как всегда, изображением дыма из пароходных труб (это была непростая работа — порой, увлекшись, я рисовал так много дыма, что умудрялся испортить всю картину), я старался запомнить на будущее, как еще по-разному этот дым может клубиться, подниматься и рассеиваться. Однако после того, как на картину наносились последние мазки, она обретала такую убедительную самодостаточность, что я забывал, как выглядел дым на самом деле.
На мой взгляд, наиболее красивым, «идеальным» столб дыма бывает при небольшом ветре — сначала он поднимается под углом примерно в сорок пять градусов, а после, прежде чем окончательно рассеяться, некоторое время висит в воздухе над морем, изящной линией обозначая направление движения судна. Тонкий угольно-черный столбик дыма, вертикально поднимающийся вверх в безветренную погоду из трубы стоящего у пристани парохода, напоминает мне уютный печной дымок над маленьким скромным домиком. Если ветер или пароход немного меняют направление, дымный след начинает закругляться и словно чертит над Босфором изгибы арабских букв — мне очень нравится за этим наблюдать. Но когда я рисовал, такое веселое и игривое поведение дыма меня раздражало — ведь дым на моих картинах призван был подчеркивать печаль пейзажа. Самое редкое зрелище бывало в совершенно безветренные дни — за кораблем, идущим по Босфору, время от времени меняя курс, тянулся и долго висел в воздухе грустный след дыма, в точности повторяющий путь корабля. Еще я любил наблюдать, как темные клубы дыма сливаются с низкими грозовыми тучами, точь-в-точь как на пейзажах Тернера[86]. И все-таки, изображая дым из пароходных труб на своих картинах, я рисовал не совсем то, что видел, — мне вспоминались пейзажи Моне, Сислея, Писарро и других импрессионистов, голубоватое облако на картине Моне «Вокзал Сен-Лазар» или принадлежащие совсем другому миру веселые, похожие на шарики мороженого облачка Дюфи.
Флобер начинает свой роман «Воспитание чувств» с описания «густых клубов дыма» из корабельной трубы, и это одна из причин, по которой я очень его люблю (есть и другие причины). Прочитанное вами только что предложение служит переходом от одной темы к другой; такой переход, предварявший соло, в классической османской музыке назывался «ара таксим». Слово «таксим» означает «разделение», «распределение», и этим же словом обозначается место, где происходит распределение воды. За десять лет до того, как Нерваль побывал в Стамбуле, на той равнине, где его взору предстали кладбища и разгуливающие туда-сюда торговцы, был сооружен водораспределительный центр. Поэтому впоследствии за этой местностью, превратившейся в площадь, в окрестностях которой я прожил всю жизнь, закрепилось название Таксим. Так она называется и до сих пор, но в те времена, когда по Стамбулу гуляли Нерваль и Флобер, это было просто безымянное поле.
31
Флобер в Стамбуле, или Восток, Запад и сифилис
Гюстав Флобер, только что подхвативший в Бейруте сифилис, и его друг, фотограф и художник Максим дю Камп, прибыли в Стамбул в октябре 1850 года, через семь лет после Нерваля, и задержались здесь почти на пять недель. После отъезда Флобер написал своему другу Луи Буйе[87] из Афин, что в Стамбуле следовало бы остаться по меньшей мере на полгода, но не стоит воспринимать эти слова слишком всерьез: Флобер тосковал по всему, оставшемуся в прошлом. Как легко понять из его писем, помеченных словом «Константинополь», с самого отъезда из Франции он ужасно скучал по своему руанскому дому, своему кабинету и милой матушке, пролившей немало слез при расставании с сыном; больше всего ему хотелось поскорее вернуться домой.
Маршрут Флобера совпал с маршрутом восточного путешествия Нерваля. Из Каира он попал в Иерусалим и далее в Ливан. Подобно Нервалю, он успел устать от сурового, грубого и жутковатого облика этого мистического Востока, который оказался значительно более «восточным», чем представлялось ему ранее, так что Стамбул его не слишком заинтересовал. (Вначале он планировал пробыть здесь три месяца.) Стамбул не был тем Востоком, который хотелось найти Флоберу. В письме, написанном все тому же Буйе из Стамбула, он говорит, что, проезжая по западной Анатолии, вспомнил лорда Байрона, путешествовавшего некогда по этим же местам. «Здесь его Восток, — пишет Флобер, — турецкий Восток, Восток кривых сабель, албанских костюмов и зарешеченных окон, глядящих на синие волны. А мне милее выжженный Восток бедуина и пустыни, золотистые дали Африки, крокодил, верблюд, жираф…»
Двадцатидевятилетний писатель за время своего путешествия уже успел набраться впечатлений на всю оставшуюся жизнь (в особенности его поразил Египет). Из писем Флобера к матери и Буйе видно, что к моменту прибытия в Стамбул он уже думал только о том, чем будет заниматься по возвращении во Францию, и о своих будущих книгах. (В то время он уже, кроме всего прочего, задумал роман «Харель-бей», повествующий о встрече цивилизованного европейца и восточного варвара, о том, как они начинают все больше походить друг на друга и в конце концов меняются местами.) Письма к матери показывают, что все составляющие знаменитого образа Флобера — отказ придавать серьезное значение чему бы то ни было за исключением искусства, отвращение к буржуазному образу жизни, браку, коммерции — уже были на месте. За сто два года до моего рождения, бродя по тем самым улочкам, на которых пройдет вся моя жизнь, он сформулировал, а после изложил на бумаге мысль, век спустя ставшую основополагающим моральным принципом для всех писателей-модернистов: «Плевать мне на свет, на будущее, на то, что скажут, на какое бы то ни было положение и даже на литературную славу, мечтая о которой я когда-то провел столько бессонных ночей. Вот таков я, такова моя натура» (письмо к матери, 15 декабря 1850, Стамбул).
Почему меня так интересует, что говорили о Стамбуле западные путешественники, что они делали, о чем думали, о чем писали своим матерям? Отчасти потому, что я порой пытаюсь представить себя Нервалем, Флобером, де Амичисом — точно так же, как в детстве, рисуя Стамбул, представлял себя Утрилло; потому, что я создавал свою личность в мысленных беседах и спорах с ними. Другая причина заключается в том, что из книг иностранцев я узнал о внешнем облике своего города и его повседневной жизни в минувшие столетия больше, чем из книг наших писателей, не уделявших Стамбулу ни малейшего внимания.
Назовите это ложным сознанием, фантазией или, как говорили раньше, идеологией, — у каждого из нас в голове есть некий полускрытый, полуявный текст, помогающий нам понять значение всего, что мы делаем в жизни. Свидетельства западных путешественников занимают значительную часть этого текста. Для стамбульца вроде меня, принадлежащего одновременно двум разным культурам, «приезжий с Запада» часто не какой-то реальный человек, а игра моего собственного воображения, моя фантазия, даже иллюзия. Но мой разум не может свести тексты старой, традиционной культуры воедино, и поэтому я ощущаю потребность в иностранце, чужаке, который своим текстом, книгой, картиной, фильмом помог бы мне понять мою жизнь. Если я чувствую, что мне не хватает взгляда со стороны, я становлюсь своим собственным «иностранцем».
Поскольку Турция никогда не была западной колонией, меня не раздражает и не огорчает, что мое прошлое, история моего города были для пишущих о Стамбуле, рисующих его, снимающих о нем фильмы иностранцев всего лишь «экзотическим материалом». Я, в свою очередь, тоже нахожу экзотическими их представления и страхи и читаю их книги чаще всего не для того, чтобы развлечься, набраться знаний или выяснить, каким в их глазах выглядел Стамбул, а для того, чтобы прикоснуться к их миру, войти в него. Более того, в их книгах и картинах я нахожу и отражение своего мира — они, движимые какими-то своими идеями, мечтами, стремлением расширить влияние своего государства или просто желанием осмотреть земли, лежащие за его границами, пришли сюда, в место, которое я называю своим домом, описали его и зарисовали. И я, в особенности читая записи, знакомясь с размышлениями и умозаключениями тех из них, кто побывал в Стамбуле в XIX веке (просто потому, что они писали более подробно и более понятным мне языком, чем их предшественники), понимаю, что мой город — не совсем «мой». Я с радостью принимаю неуверенность, которую ощущаю, размышляя о месте, где живу, и о своем к нему отношении; благодаря этой неуверенности я могу становиться и объектом, и субъектом западного взгляда. Глядя на силуэт Стамбула из Галаты или Джихангира (где я пишу эти строки), я представлял себя одним из тех западных художников, что любили рисовать город именно отсюда; точно так же, читая написанное о Стамбуле западными писателями, я порой отождествляю себя с ними — вместе мы пытаемся разобраться в подробностях местной жизни, подсчитываем, взвешиваем, раскладываем все по полочкам и выносим суждения, в которых, по большей части, отражаются наши собственные мечты, желания и убеждения. В такие моменты я словно бреду по улицам, погруженный в размышления о городе, мысли мои скользят, меняются местами, сталкиваются друг с другом: я вижу город то изнутри, то извне, но при этом не чувствую себя ни целиком и полностью местным, ни безусловным чужаком. Именно такие отношения установились в последние полтора века между стамбульцами и городом, в котором они живут.