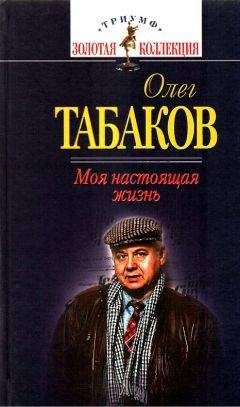Райкин
Мне приходилось много работать на радио с женщинами — Антониной Ильиной, Лией Веледницкой, Надеждой Киселевой, Розой Иоффе.
Радиопостановку по сказке Шарля Перро «Золушка» ставила Лия Веледницкая. Кого я играл — сейчас уже не помню, а вот на роль Короля был приглашен Аркадий Исаакович Райкин.
И снова я ощутил восторг, оттого что совсем рядом со мной, по другую сторону микрофона, стоит великий артист. Оттого что нас связывает общее дело. От незабываемого чувства сотворчества, сотоварищества.
Оказалось, что у него все, как у нормальных людей: те же сомнения, те же причуды, те же слабости, — но… гений — особая статья. Пушкин писал Вяземскому: «Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? слава богу, что потеряны… Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением… Мы знаем Байрона довольно. Видели его на троне славы, видели в мучениях великой души, видели в гробе посреди воскресающей Греции… Толпа… в подлости своей радуется унижению высокого, слабостям могущего. При открытии всякой мерзости она в восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он и мал и мерзок — не так, как вы — иначе…»
Узнаванию Аркадия Исааковича помогали и мои визиты в дом Райкина, и его визиты в «Современник», и его сын, Костя Райкин, ставший актером «Современника».
Аркадий Исаакович приходил на современниковские чаепития в идеальных белых сорочках и элегантно повязанных галстуках. Но за одним столом с нами он существовал несколько отрешенно. Мы из кожи вон лезли, чтобы увлечь его нездешние мысли в русло наших суетных разговоров, и Аркадий Исаакович временами действительно «возвращался» к нам, но вскоре опять «уходил на свободу», и парил, парил, каким-то одному ему ведомым способом достигая горних высей.
Он принес мне такое же количество радости, как и Женя Евстигнеев. Поэтому по сию пору при воспоминании об Аркадии Исааковиче душа моя переполняется мыльными пузырями восторга, которые так и рвутся наружу…
Чтобы попасть в «Современник», очередь занимали с ночи.
«Баллада о невеселом кабачке». Братец Лаймон следит за мисс Амелией.
Пятьдесят лет занятий театром, начиная с драмкружка под руководством Натальи Иосифовны Сухостав, — очень большой срок.
Но думаю, что коэффициент полезного действия от наработанного мною за все эти годы оказался меньшим, чем хотелось, хотя и явно превышал КПД паровоза. Наиболее стоящее из этих двадцати процентов связано не с тем, что «созрел замысел» или «сначала произошло озарение, а потом была огромная работа по реализации этого замысла, в поте лица своего, не разгибая спины…» и т. д., и т. п. Нет! Самыми стоящими оказываются некие профессиональные откровения, связанные с работой моего подсознания. Я твердо уверен, что в данном конкретном случае надо делать так и только так. А почему — не знаю. И не важно, что не знаю. Многое из того, что я делаю на сцене, я вообще никогда не узнавал — как надо. А вот ТАК!
Такой странный случай произошел однажды в шестьдесят шестом году, в период работы над пьесой Эдварда Олби «Баллада о невеселом кабачке». Пьеса являлась версификацией драматической повести Карсон Маккалрс, рассказывающей о женщине-гермафродите, о молодом красавце-ковбое Дальнего Запада и о горбуне, калеке и гомосеке, каким и был мой персонаж — братец Лаймон. Любовный треугольник: женщина любит горбуна, красавец-ковбой любит женщину, а братец Лаймон влюблен в ковбоя. И на самом деле, ситуация безвыходно трагическая. Режиссером всего этого апокалипсиса был человек по имени Эйви Эрлендссон, приехавший в СССР из Исландии. На родине он разводил баранов, а потом решил заняться искусством театра, был учеником Марьи Иосифовны Кнебель. Замечательные декорации к спектаклю сделали Миша Аникст и Сережа Бархин — это была одна из первых их работ — странный такой домик, раскрывающийся на три стороны… Так вот, в финале любовный «треугольник» пришел к тому, что Амелия Ивенс, которую играла Галя Волчек, и ковбой Мервин Мейси в исполнении Германа Юшко, дрались на бессрочном, то есть до результата, поединке, дабы понять, кто из них останется жить на свете и любить, а братец Лаймон за всем этим наблюдал. Борьба длилась довольно долго, и, наконец, в какой-то момент, когда казалось, что Амелия вот-вот победит, братец Лаймон выскакивал, как черт из табакерки, отвлекал ее внимание подножкой, укусом или еще чем-то, а в это время соперник наваливался на нее и побеждал. Повергнутая, униженная и раздавленная Амелия лежала и умирала, убитая морально и достаточно поврежденная физически. Тогда ковбой говорил горбуну: «Ну, ты, малыш! За мной!» — и свистел, как собаке. А я по тексту должен был побежать за ним. Вроде бы все ясно и просто. Но на генеральной репетиции, после того как мне свистнули и позвали, я не побежал за ковбоем, а медленно-медленно пополз в сторону Амелии и стал тереться об нее головой — долго, долго, долго… И только потом уже, после третьего окрика, пошел за красавцем-ковбоем.
Проводивший репетицию Олег Николаевич настойчиво и довольно безапелляционно требовал от меня объяснений: «А что это ты делал? Ну что ты делал-то такое?!» В итоге, к сожалению, того момента в спектакле не осталось. Не то чтобы Ефремов не давал этого делать. Мне вдруг стало скучно, обидно, потому что от меня потребовали объяснения такой интимной вещи, которую объяснениями можно только опошлить… Есть некоторые проявления живой жизни человеческого духа, которые не детерминируются. Хотя можно было бы сказать словами, что я имел в виду: «Прости меня, Амелия, Христа ради». Но зачем? Пьеса эта не была близка Олегу Николаевичу и не очень любима им, а была взята в репертуар как одно из лучших современных произведений мировой драматургии. Вот конкретный пример того, как нежданно-негаданно возникающее на сцене не вытекает из текста, а является продуктом работы подсознания артиста.
Я играл не гомосексуалиста, не инвалида-горбуна, я играл братца Лаймона — человека любящего, стремящегося к любви. И флюиды любви достигали сердец сидящих в зале.
«Балладой о невеселом кабачке» свершился определенный прорыв в эстетике театрального языка, и роль братца Лаймона стоит несколько особняком от всего того, что мне поручалось играть в «Современнике» до и после «Обыкновенной истории» вплоть до семидесятого года. В течение этих лет на театральной грядке «Современника» было достаточно пусто.