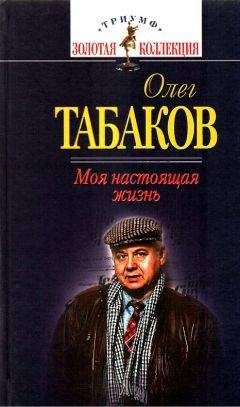Вот так я сам поворачивал свою судьбу.
Следующий — 68-й — был ознаменован для меня как долгожданным событием, так и весьма тяжелым испытанием.
Меня пригласили сыграть роль Хлестакова за границей, в Праге. Прага тогда была удивительным городом. Театральная жизнь столицы этой маленькой страны была одной из самых значительных и интересных в Европе того времени, наряду с английской, польской, русской. В пражских театрах одновременно работали режиссеры Альфред Радок и Отомар Крейча, художники Ладислав Выходил и Йозеф Свобода — короче говоря, «театральная Мекка», как называли Москву 20-х годов. В Чехословакии того времени произошел настоящий культурный взрыв, разославший свои таланты по всему миру.
Приглашение поступило от театра под названием «Чиногерны клуб». Условие — подготовиться за неделю. Когда я прилетел в Прагу, оказалось, что в один из дней этой недели труппа уезжает в Остраву на выездной спектакль. Таким образом, в моем распоряжении оставалось не семь дней, а шесть. Спешка объяснялась тем, что предыдущий исполнитель роли Хлестакова, врач по образованию, игравший вполне успешно, остался жить в Англии и им необходимо было произвести быструю замену.
Художником спектакля был Либош Груза, режиссером — Гонза Качер, много снимавшийся киноактер, один из знаменитых актеров — участников «пражской весны», известный наряду с Верой Хитиловой, Милошем Форманом, Иржи Менделем и ставший сенатором после бархатной революции.
При чтении пьесы мне, кажется, удалось произвести впечатление на своих коллег. С этого момента началась моя гипертоническая болезнь, видимо, стресс был так силен. Артисты долго аплодировали мне, когда мы закончили читать, но с головкой уже что-то произошло. Мы прорепетировали шесть дней, а потом я целый месяц играл этот спектакль практически ежедневно. Квинтэссенция рецензий в одной из газет была таковой: «Олег Табаков вместе с Моцартом может сказать: «Мои пражане меня понимают». Так обо мне еще не писали… Это был действительно самый большой театральный успех в моей жизни. Когда я уходил со сцены, играл такую безмолвную сцену прощания с домом, гладил сцену, плакал… Сцена длилась примерно минуты две, и примерно столько же длились аплодисменты, когда я уходил. И вообще, было удивительно, что зрители понимали меня, русскоязычного, быстрее, чем чешских актеров.
О чем был Хлестаков? Может быть, о самой главной болезни века… Вы хотите видеть меня таким? Пожалуйста! Могу быть левым, могу быть правым, могу быть центристом, могу быть талантливым, могу быть бездарным, могу быть нежным, могу быть жестоким… Откуда это у меня? Откуда? Это все из жизни.
Однажды в Англии мы с Ефремовым были приглашены на прием в честь дня рождения королевы Елизаветы. Обилие клубники, черешни и отравляющих алкогольных напитков сыграло свою роль: Олег ринулся в бой так смело и активно, что я не смог его ни удержать, ни уберечь, а дамы, которые пели мне комплименты на три или четыре голоса, повышая тесситуру своих партий, довели меня до того, что я, махнув рукой на все и предав своего друга и учителя, пошел получать порции своей славы, становясь на глазах своих изумленных почитателей умнее и талантливее, чем был на самом деле.
Память об этом приеме и была серьезной помощью в моем осознании, как говорят медики, этиологии и патогенеза течения той самой болезни века, которую воплощал собою Хлестаков.
Мы отыграли в Праге почти тридцать спектаклей. При прощании посол СССР в Чехословакии Степан Васильевич Червоненко сказал: «Спасибо, дорогой Олег, ты увозишь с собой медицинское оборудование для шести городских поликлиник». Так что не только славой отечества, но и преумножением финансов Госконцерта закончилась эта поездка.
О постановке «Ревизора» в Праге писали не только пражские газеты, но и европейские — французские, немецкие, итальянские — писали, писали, писали… Готовился проект мирового турне этого спектакля…
Но за февралем приходит август, а в августе танки были введены в Злату Прагу. Естественно, затея мирового турне накрылась медным тазом, и наступили совсем другие времена.
Осенью 68-го года я попал в больницу. Из Чехословакии мне пришли две посылки — подарки, которые я делал своим друзьям в Праге. Как форма протеста против того, что происходило у них в стране. Как ни страшно мне тогда было, прямо из больницы я послал телеграмму Брежневу, протестующую против ввода войск в Чехословакию. Не один я решился тогда на подобное — и Евтушенко, и Вознесенский, и Окуджава, и многие другие выражали свое несогласие.
Мне было больно и обидно, когда мне вернули подарки. Но с другой стороны, я понимал и всю паскудность того, что делал Советский Союз в отношении Чехословакии. Может быть, самое кошмарное во всей этой истории то, что спустя три месяца, когда в ноябре 67-го раздавали так называемые ордена к 50-летию советской власти, и Евтушенко, мне и другим людям дали по ордену «Знак Почета». Так нам отомстили за выражение протеста. Власть была не только мощной изобретательной, она была, так сказать, макиавеллиевской по дальновидности и непредсказуемости своих ходов. Кому было интересно — давали мы телеграммы им, не давали… Много бы я дал, чтобы иметь силы вернуть эту каинову печать, но нет, на это была кишка тонка. Позже, знакомясь с некоторыми записями Сперанского, наставника Александра I, я обнаружил, что это давно принятый на вооружение дьявольский ход власти. Попробуй отмойся. «Это же наш талантливый советский парень. Вот, только что орденочек получил. Видали?»
Мое награждение орденом «Знак Почета» вызвало неадекватную реакцию в «Современнике»: кто-то отнесся к этому иронически, кто-то саркастически, кому-то это просто не давало жить спокойно долгое время. Это был первый орден в истории театра — до того получали только медали. Весь ужас заключался в том, что театр меня к этой награде не представлял. Что породило довольно большую растерянность и гнев у руководства, поскольку всем известно, как составляются списки награждаемых, как заполняются анкеты, как они утверждаются профсоюзной и партийной организациями, дирекцией, потом все это отправляется в райком, из райкома — в горком профсоюза, а потом в горком партии, в ЦК профсоюза, в отдел культуры ЦК… И вся эта длинная цепь инстанций была заменена одним только росчерком пера. Теперь-то я знаю, что мою фамилию просто внесла в список Алла Михайлова, сотрудница отдела культуры ЦК. Помню гневную растерянность Ефремова, когда я отпрашивался у него для получения этого ордена с репетиции…
Самому факту награждения я не придал большого значения. Но преамбула его получения дала мне много пищи для изучения науки о людях и истории собственной страны.