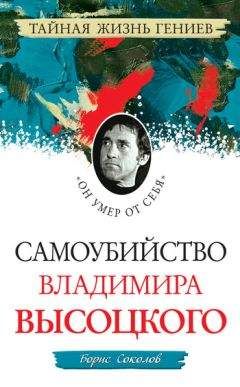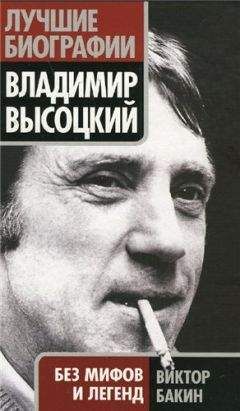Оксана вспоминала: «Да, с наркотиками было сложно… Но вот одна девушка, которая много раз выручала Володю, мне говорила потом, что у нее было…
– У меня дома все было… Почему мне никто не позвонил?! Я бы приехала и привезла…
Хотя, конечно, это не спасение… При тех дозах, при том образе жизни, который он вел, Володя все равно бы умер…»
Встает вопрос, действительно ли Высоцкий не просил наркотиков в последние дни своей жизни и действительно ли ему не могли их достать из-за строгостей, связанных с Олимпиадой?
Янклович настаивает: «Ведь он действительно не просил наркотиков в последние дни… Он это для себя решил. А если бы он взмолился, мы бы, конечно, нашли… Может, так он решил покончить с болезнью?»
Оксана придерживается того же мнения: «Володя прекрасно понимал, что превратился в зависимого человека. Он очень переживал, что приходилось просить, унижаться… Самым большим желанием его в последний год было – завязать с наркотиками. И это было самое главное, потому что дальше так он жить уже не мог».
Шехтман, правда, насчет стремления Высоцкого завязать с наркотиками был настроен довольно скептически: «Володя хотел как? – у него же все сразу получалось, абсолютно все! И тут он хотел так же… Вот сегодня я начинаю лечиться, а завтра встану здоровым! А с этой болезнью так не бывает».
Я склонен здесь согласиться с Шехтманом. Высоцкий попробовал лечиться, но когда увидел, что немедленного эффекта лечение не дает, опустил руки.
19 июля в Москву прилетел Туманов. Он передал Высоцкому гимнастический комплекс через Шехтмана, но сам с ним встречаться не стал.
Вот последнее стихотворение Высоцкого, которое должно было стать песней к фильму его давнего друга, режиссера Геннадия Полоки, «Наше призвание», где он собирался играть одну из главных ролей – секретаря комячейки Сыровегина, по словам Полоки, «этакого партийного работника с гитарой». 19 июля Высоцкий позвонил Полоке и пропел свою последнюю песню:
Из класса в класс мы вверх пойдем, как по ступеням,
И самым главным будет здесь рабочий класс,
И первым долгом мы, естественно, отменим
Эксплуатацию учителями нас!
Да здравствует новая школа!
Учитель уронит, а ты подними!
Здесь дети обоего пола
Огромными станут людьми!
Мы строим школу, чтобы грызть науку дерзко,
Мы все разрушим изнутри и оживим,
Мы серость выбелим и выскоблим до блеска,
Все теневое мы перекроем световым!
Так взрасти же нам школу, строитель, —
Для душ наших детских теплицу, парник, —
Где учатся – все, где учитель —
Сам в чем-то еще ученик!
В этой песне отразилась определенная ирония Высоцкого по отношению к советским экспериментам 20-х годов, в том числе и в сфере школьного образования. В этом он вполне совпадал с режиссером фильма, одним из основоположников иронического жанра в советском кино. Отсюда – слова насчет отмены эксплуатации учителями учеников. Кстати сказать, этот лозунг не выдуман Высоцким. В школе 20-х годов на полном серьезе проводились лозунги о равенстве педагогов и школьников и были отменены традиционные уроки, поскольку они, дескать, позволяли первым диктовать свою волю вторым. Но вот об учителе, который «сам в чем-то еще ученик» – глубоко автобиографичны. Высоцкий, с одной стороны, ощущал себя учителем-пророком, а с другой стороны, – все время сомневался как в масштабе своего таланта, так и в том, правильно ли его воспринимают читатели, зрители и слушатели. Можно сказать, что он не только воспитывал аудиторию, но и учился у нее.
20 июля Высоцкого навестил его сын Аркадий. Он в те дни поступал на физтех, у него неудачно складывались экзамены (две четверки), и он приходил попросить помощи у отца. Вот что он рассказывал об этом: «В середине дня отец проснулся… Я сразу понял, что он действительно сейчас не в состоянии разговаривать. Но, поскольку я уже пришел, решил подождать, пока не придет Валерий Павлович.
Пытался завести какой-то разговор, стал спрашивать:
– Вот я слышал, что ты из театра уходишь?
Но отец был явно не в настроении разговаривать… Через некоторое время он стал говорить, что ему надо уйти, говорил что-то про Дом кино… Я, естественно, считал, что он пойдет искать, где выпить… И даже порывался сам сходить, потому что не хотел, чтобы отец выходил из дома… На нем была рубашка с коротким рукавом, и, в общем, было видно, что дело там не только в алкоголе (очевидно, сын заметил многочисленные следы уколов. – Б. С.)… А мама мне уже говорила, что с отцом происходит что-то странное, но я сам таким его ни разу не видел… Он прилег. Потом стал делать себе какие-то уколы – на коробках было написано что-то вроде седуксена… Он не мог попасть… Все это было ужасно… Ужасно. И настолько отец был тяжелый, что я стал звонить всем, чтобы хоть кто-то пришел! Взял телефонную книжку и звонил. Не помню, что сказали Смехов и Золотухин, но приехать они отказались.
Нина Максимовна сказала:
– Почему ты там находишься?! Тебе надо оттуда уйти!
И тут позвонил Янклович и сказал, что сейчас приедет.
Приехал он через час с сыном и кое-что привез… Это «кое-что» было завернуто в бумажку. Отец сделал такую трубочку и стал это нюхать. При этом половину рассыпал. Валерий мне честно сказал, что это такое, когда стал уходить…
Когда отец понюхал эту штуку, ему стало немного лучше. Он стал дарить мне какие-то вещи. Я делал вид, что очень этого не хочу, но брал, конечно… Потом он взял тетрадь и пытался что-то спеть. Текст он читал, а играть не мог, пальцы были нескоординированы. Но он пытался петь, одну песню он спел полностью, а другую не закончил. Я мало что разобрал, потому что была нарушена и артикуляция.
Я попросил его спеть какие-то другие песни, – просто чтобы его отвлечь, и было такое «сражение» в течение трех часов… Примерно в три уехал Янклович, а в шесть приехал Туманов. Да, я дозвонился до Туманова, а посоветовала это мне сделать Нина Максимовна: «Это очень хороший друг, позвони ему, он поможет».
Я позвонил, сказал, что очень прошу приехать, что не могу удержать отца, – он хочет уйти.
– Хорошо, – сказал Туманов, – я сейчас приеду. Только ни в коем случае не давай ему выпить! Не выпускай и не давай выпить. Если очень будет рваться – отведи к соседям.
Он назвал квартиру Нисанова.
Некоторое время мы еще спорили: идти – не идти… Пришлось идти. На десятый этаж я не поехал – боялся, что в лифте отец может спуститься вниз. И повел его направо – по-моему, к Гладкову. Я завел его, уже был вечер, потому что, когда я уезжал, было шесть часов. Мы зашли, Гладков сказал: «О, Володя!» – они начали что-то говорить… Потом отец пошел на кухню, а я задержал Гладкова и сказал: