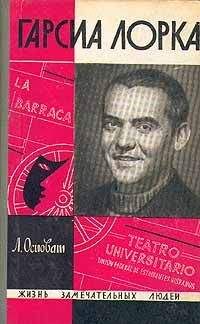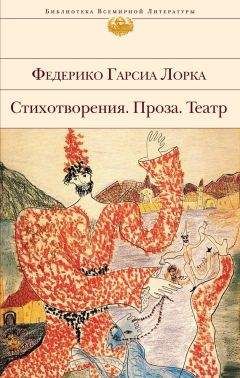В биржевой лихорадке было что-то зловещее. Бешеная погоня за иллюзорной наживой казалась символом общества, где люди загипнотизированы и порабощены ими же созданными мнимостями. Чудовищный механизм работал сам на себя; крутились бесчисленные жернова, перемалывая, превращая в ничто человеческую жизнь – единственную, невозместимую... И в мерном этом кружении, в машинном, мертвенном ритме Федерико все явственней узнавал ту безыменную стихию уничтожения, которая преследовала его в ночных кошмарах.
Не женщиной в траурном платье, не всадником на черном коне предстала перед ним на этот раз смерть. Здесь она прикидывалась самою жизнью. И все-таки он распознал ее.
Против смерти было одно средство, испытанное, – писать. Но он не мог писать без людей – пусть невидимых, только бы чувствовать их за плечами, только бы знать, что, заблудившись в каменных лабиринтах Нью-Йорка, они делят с ним боль, отчаянье, гнев.
Напрасно пытался он восстановить таких людей в памяти, вызвать из прошлого. Воспоминания детства, образы канте хондо здесь были бессильны. Андалусия даже в воображении не совмещалась с Америкой, испанской мерой невозможно казалось измерить мир, в котором он очутился.
Между тем, вслушиваясь в упорядоченный грохот города, Федерико порою улавливал какой-то иной, своевольный ритм. Сознание его исподволь отмечало все те секунды, когда словно свежее дуновение проносилось в нью-йоркском пробензиненном воздухе.
Это случалось в лифте, где негр-лифтер, выкрикивавший свои «Ап!» и «Даун!», улыбался во весь рот Федерико, встретившись с ним глазами. Или в театрике, на сцене которого залихватски выбивал чечетку черный парень, длинноногий и длиннорукий. Или просто на улице, если в толпе деловито марширующих горожан Федерико попадалась вдруг темнокожая девушка, идущая легкой, танцующей походкой. В воспоминаниях о подобных секундах чаще всего присутствовали темные лица разных оттенков, от черного до коричневого, курчавые волосы, сверкающие белые зубы.
И вскоре Федерико уже сам стал выискивать в городской сутолоке людей, отличавшихся от окружающих не столько цветом кожи, сколько тем, что, работая споро и тщательно, они все-таки никогда не отдавались делу целиком, не растворялись в нем до конца. Как бы стремительно ни крутились кругом колеса, эти люди урывали любую возможность перекинуться словом, посмеяться, поглазеть – с детским, восторженным, любопытством – на уличное происшествие, ухитрялись даже помечтать минутку о чем-то своем, подставив щеку случайному солнечному лучу. А когда начинался ежевечерний отлив от центра, когда негры и мулаты, отработав еще день на хозяев, возвращались в свои жилища, Федерико шел за ними, завороженно следя, как по мере приближения к Гарлему меняется их походка, звонче становятся голоса.
После Бродвея, после Парковой авеню Гарлем выглядит убого. Скудное освещение, обшарпанные кирпичные стены в зигзагах пожарных лестниц. Колышется белье, развешанное для просушки, дети роются в мусорных кучах. И не только смех, не только музыка – хотя все тут словно пропитано ею, но и всхлипыванья чьи-то, и пьяная ругань, и шум драки. Но черные и коричневые люди здесь у себя дома. Никто не закроет перед ними двери ресторана или кинематографа, не вывесит таблички «Только для белых», не крикнет: «Эй ты, ниггер!», а если кто крикнет, тому, пожалуй, не поздоровится – вон ведь как грозно посверкивают белками из темных углов плечистые парни. И Федерико, никогда в жизни не задумывавшийся, кто он – белый, цветной? – чувствует: здесь он среди своих. Кажется, заверни за угол – и очутишься в «нижних кварталах» Мадрида, в Триане, либо в кривых переулках Альбайсина.
В Гарлеме у Федерико завелись приятели-музыканты. Объяснялся он с ними главным образом жестами, а что еще нужно, чтобы выразить свое восхищение грустными и лукавыми блюзами, чтобы, взобравшись в перерыве на эстраду, подобрать на пианино полюбившуюся мелодию, а там сыграть да и спеть лихую гранадскую тонадилью, которую, перемигнувшись, подхватит за ним весь джаз-банд?..
А в баре на 137-й стрит каждый вечер поджидал его полусумасшедший старик, потерявший сына на большой войне белых людей. Только это и можно было понять из несвязных речей старика, но Федерико не надоедало их слушать. Заражаясь безмерным отцовским отчаянием, ощущая, словно рушится в нем какая-то внутренняя преграда, он мысленно перекладывал на свой язык не слова, но интонации горестно дребезжавшего голоса, рыдания, вопли.
Погибший мог бы быть и испанцем, его бы звали Хуан...
У меня был сын, которого звали Хуан.
У меня был сын.
Я стучался во все могилы. Мой сын! Мой сын! Май сын!
Сами собой возникали судорожные образы, мучительные, как бред, строки – лишь такие способны были выразить всю нелепость и непоправимость совершившегося, передать эту беснующуюся скорбь.
Я видел: прозрачный аист из пьяного сна
расклевывая черные головы умиравших солдат,
я видел брезентовые палатки,
где ходили по кругу стаканы, наполненные слезами.
Да, я знаю, мне подарят галстук или рукава от рубашки;
но посреди мессы я сломаю руль, и тогда
снизойдет на камень безумье пингвинов и чаек,
и заставит оно говорить тех, кто спит, и тех, кто поет на углу:
у него был сын
Сын! Понимаете? Сын,
который принадлежал лишь ему, ибо это был его сын!
Его сын! Его сын! Его сын!
Одиночество отступало. Гарлем дал ему опору, и королю Гарлема посвятил он одно из первых стихотворений, написанных в Нью-Йорке.
Короля этого Федерико измыслил, соединив в его лице разных людей:
мелькавшего в ресторанном окошечке великана повара, особенно черного в белоснежном, накрахмаленном своем колпаке,
барабанщика из джаз-банда, казавшегося по меньшей мере десятируким, – с таким непостижимым проворством поспевал он колотить по всем инструментам, которыми был обставлен,
величественного швейцара в красной ливрее, расшитой золотыми галунами...
А за ними виделись ему тропические леса с обезьянами и крокодилами, вставал первобытный ликующий хаос.
В этот вечер король Гарлема размахивал ложкой,
вырывая глаза крокодилам,
и хлопал по заду мартышек
большой ложкой.
И плакали потрясенные негры
среди зонтов и солнц, в золотом закате,
и мулаты, махая руками, ловили девичьи плечи,
а ветер в туман одевал зеркала
и кидался под ноги танцорам.
И все это Федерико собирал воедино, под свое знамя, выводил против бездушной, машинной, денежной цивилизации.
О Гарлем переодетый!
О Гарлем, осажденный толпой манекенов!
Ко мне доходит твой ропот,
ко мне доходит твой ропот, пронизывая стволы и лифты,
сквозь серые перекрытия,
по которым снуют их зубастые автомобили,
сквозь конские трупы и недовершенные преступленья,
воплощаясь в великом и грустном твоем короле
с бородою, впадающей в океан.
Начиналась новая книга – он назовет ее «Поэт в Нью-Йорке».
Подходит к концу жаркое, суматошное, доверху набитое впечатлениями лето 1929 года. Федерико отправляется в штат Вермонт – погостить на ферме у молодого американца Филипа Кэммингса, с которым он свел знакомство еще в Мадриде, в Студенческой резиденции.
Позади осталось нью-йоркское столпотворение. Бежит навстречу, исчезая под колесами автомобиля, черная нескончаемая лента шоссе. На перекрестках вертятся, как заводные куклы, полисмены-регулировщики, закрытые со всех сторон разноцветными щитами: повернется такой синим боком – путь свободен, красную спину покажет – стоп. Леса густеют, подступают к самым обочинам; реже встречаются роскошные «паккарды» и «роллс-ройсы», чаще -облезлые «фордики», груженные бидонами с молоком, овощами, мелкой живностью. И только дорога все та же – черная, гладкая, разграфленная белыми линейками, с одинаковыми газолиновыми станциями через каждые несколько миль.
Чем дальше на север, тем явственней приближение осени. Неярко светит сонное солнце, воздух наполнен спокойным сиянием. Где-то в лесу шофер заглушает мотор и знаком предлагает Федерико прислушаться. Жужжание пчел доносится из придорожных кустов – мирный, домашний звук. Может быть, Нью-Йорк – всего лишь страшный сон?
Но за поворотом шофер подбирает попутчика -худого, скуластого парня, который, поглядев на Федерико внимательно, заговаривает с ним по-испански. Парень оказывается уроженцем Техаса, наполовину мексиканцем. Последнее время он работал неподалеку отсюда, в большом молочном хозяйстве, и вот лишился работы. Почему? Машины! И чистят и кормят теперь машины, а скоро, говорят, и доить станут... Америка не нуждается в людях, земляк!..
Ферма Кэммингсов стоит на берегу озера Эден Миллс. В хорошую погоду Федерико часами сидит, грызя карандаш, на перевернутой лодке возле самой воды, в дурную – забирается на кухню, поближе к плите, на которой матушка Кэммингс жарит свои знаменитые пончики. Вдвоем с Филипом они бродят по окрестным лесам, раздвигая папоротниковые заросли, перелезая через поваленные стволы и нагромождения валунов, напоминающие Федерико развалины мавританских крепостей где-нибудь в Сьерра-Морене.