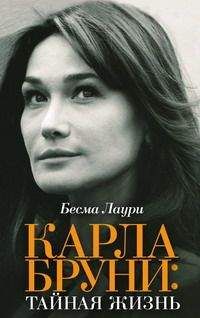Смысловая и ритмическая связь стихов об Александре Герцовиче с «Молитвой» Лермонтова не вызывает сомнений. Хочется отметить также возможную связь стихотворения Мандельштама с тютчевским «Так, в жизни есть мгновения…». Давно замечено (С.С. Аверинцевым и другими исследователями), что при анализе интертекстуальных связей у Мандельштама имеет смысл в большей степени ориентироваться на размер, чем на словесные аналогии. (Хотя принимать этот принцип в качестве обязательного во всех случаях догматического правила не стоит.) А «Жил Александр Герцович…» и тютчевское стихотворение не только ритмически близки и не только имеют смысловую связь (ведь и Мандельштам, и Тютчев пишут о самозабвении: первый – в искусстве, второй – в слиянии души с природой); кроме того, у них совпадают в первом четверостишии полностью, а во втором наполовину ударные звуки в рифмующихся словах:
Жил Александр Герцович,
Еврейский музыкант, —
Он Шуберта наверчивал,
Как чистый бриллиант.
И всласть, с утра до вечера,
Затверженную вхруст,
Одну сонату вечную
Играл он наизусть…
Так, в жизни есть мгновения —
Их трудно передать,
Они самозабвения
Земного благодать.
Шумят верхи древесные
Высоко надо мной,
И птицы лишь небесные
Беседуют со мной [189] .
Для Мандельштама, «ученика» Тютчева и чрезвычайно чуткого и памятливого в звуковом отношении поэта, вряд ли это может быть чисто случайным совпадением. Добавим, что в обоих стихотворениях важная роль принадлежит звукосочетаниям «ер»/«ре» (+ «с»/«ц» у Мандельштама и + «в» у Тютчева), отражающим на фонетическом уровне ключевое значение слова «сердце» в «Александре Герцовиче» и слова «время» в тютчевских стихах.
Мандельштам пишет, что Александр Герцович играл одну сонату «вечную». Это уместно понять и как проникновение вечности во время, как момент вечности в обыденности. Но о том же – у Тютчева: он пишет о мгновениях «самозабвения», ухода из-под власти времени – «мгновения» из первой строки противостоят времени из последней: «О время, погоди!» (мотив, конечно, гетевский, фаустовский).
Еще одну возможную связь «Александра Герцовича» можно предположить – с «Затворницей» («В одной знакомой улице…») Я. Полонского. Как и в случае с тютчевскими стихами, здесь не может быть точных доказательств. И тем не менее позволим себе эту гипотезу. Напомним стихотворение Полонского:
Затворница
В одной знакомой улице —
Я помню старый дом,
С высокой, темной лестницей,
С завешенным окном.
Там огонек, как звездочка,
До полночи светил,
И ветер занавескою
Тихонько шевелил.
Никто не знал, какая там
Затворница жила,
Какая сила тайная
Меня туда влекла,
И что за чудо-девушка
В заветный час ночной
Меня встречала, бледная,
С распущенной косой.
Какие речи детские
Она твердила мне:
О жизни неизведанной,
О дальней стороне.
Как не по-детски пламенно,
Прильнув к устам моим,
Она дрожа шептала мне:
«Послушай, убежим!
Мы будем птицы вольные —
Забудем гордый свет…
Где нет людей прощающих,
Туда возврата нет…»
И тихо слезы капали —
И поцелуй звучал —
И ветер занавескою
Тревожно колыхал [190] .
«Затворница» была весьма известным в XIX – начале ХХ века городским романсом, причем пели его разные социальные группы (народники, каторжане и ссыльные, студенты, просто мещане). В конце 1920-х годов она еще сохраняла популярность – не случайно Маяковский обыграл этот романс в «Клопе», где Присыпкин поет под гитару:
На Луначарской улице
я помню старый дом —
с широкой чудной лестницей,
с изящнейшим окном [191] .
Между тем «Жил Александр Герцович…» явно напоминает городской романс: «Жил…» – балладный зачин (ср.: «Затворница жила» и «Жил-был король когда-то…» и т. п.); «Он Шуберта наверчивал, / Как чистый бриллиант» – лексика уличного романса. Кроме того, в «Затворнице» Полонского девушка «твердила» возлюбленному: «Послушай, убежим!» Очень заманчивая мысль для Мандельштама этой поры. Он пишет «Александра Герцовича» 27 марта 1931 года, и в это же время, с 17 по 28 марта, создается «За гремучую доблесть грядущих веков…», где сказано: «Запихай меня лучше, как шапку, в рукав / Жаркой шубы сибирских степей…» Другое дело, что бежать некуда и недостойно.
Е.П. Сошкин в своем подробном анализе стихотворения указывает на очень вероятную связь «Александра Герцовича» со стихотворением Софьи Парнок «Налей мне, друг, искристого…» (1925) [192] .
Имя «Александр» вводит в мандельштамовское стихотворение высокий, пушкинский контекст, и от «Александра Сердцевича» не так уж далеко, как это ни парадоксально звучит, до «Александра Сергеевича». Мандельштама, вероятно, иногда раздражала бесконечная музыка за стеной, но сосед-музыкант – собрат по искусству, и поэт обращается к нему как к товарищу. Не всем дается слава, и слава – не главное (четверостишие об «итальяночке» отсылает, очевидно, к прославленной итальянской певице Анджолине Бозио, скончавшейся в Петербурге в 1859 году, – Мандельштам собирался написать о ней повесть «Смерть Бозио»; в стихах о безвестном еврейском музыканте «итальяночка» – олицетворение славы). Мандельштам отнюдь не был равнодушен к славе, к известности, но если не оставило творчество, не покинуло искусство, то не только отсутствие славы, но и бесславье можно принять и пережить. Об этом – в четверостишии о «вороньей шубе». Отметим, что это единственное место в стихотворении, где автор напрямую объединяет себя с героем («Нам с музыкой-голýбою / Не страшно умереть…»), здесь звучит непосредственно личная нота – отголосок истории с переводом «Тиля Уленшпигеля»: «воронья шуба» восходит к упомянутому выше письму А. Горнфельда в «Красной вечерней газете», в котором он обвинил Мандельштама в моральной нечистоплотности и сравнил его поступок с кражей пальто.
Что означает эта «воронья шуба»? Как понять мандельштамовский образ?
Шуба – один из важных, повторяющихся и неоднозначных образов у Мандельштама. Добротная шуба, в частности, – атрибут признанных литераторов. И даже дело не столько в признанности, сколько в том, что они «свои» в своей русской литературе. Шуба в данном контексте – знак избранности, нередко трагической, но избранности. «Литература века была родовита. Дом ее был полная чаша. За широким раздвинутым столом сидели гости с Вальсингамом. Скинув шубу, с мороза входили новые. Голубые пуншевые огоньки напоминали приходящим о самолюбии, дружбе и смерти» («Шум времени»).
Но Мандельштам не входил в русскую литературу как «свой». Напротив, у целого ряда литераторов символистского круга «претензия» этого еврея быть русским поэтом встретила иронически-враждебное отношение. Что такое, в самом деле, «Осип Мандельштам»? Само это имя – воплощенный курьез: гоголевски-простонародное «Осип» (наивно замаскированный под русского Иосиф) и звучно-раввинское «Мандельштам»… Некий странный субъект.