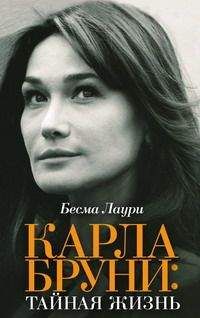Что означает эта «воронья шуба»? Как понять мандельштамовский образ?
Шуба – один из важных, повторяющихся и неоднозначных образов у Мандельштама. Добротная шуба, в частности, – атрибут признанных литераторов. И даже дело не столько в признанности, сколько в том, что они «свои» в своей русской литературе. Шуба в данном контексте – знак избранности, нередко трагической, но избранности. «Литература века была родовита. Дом ее был полная чаша. За широким раздвинутым столом сидели гости с Вальсингамом. Скинув шубу, с мороза входили новые. Голубые пуншевые огоньки напоминали приходящим о самолюбии, дружбе и смерти» («Шум времени»).
Но Мандельштам не входил в русскую литературу как «свой». Напротив, у целого ряда литераторов символистского круга «претензия» этого еврея быть русским поэтом встретила иронически-враждебное отношение. Что такое, в самом деле, «Осип Мандельштам»? Само это имя – воплощенный курьез: гоголевски-простонародное «Осип» (наивно замаскированный под русского Иосиф) и звучно-раввинское «Мандельштам»… Некий странный субъект.
Мандельштам уже в молодости, как говорилось, получил репутацию непредсказуемого чудака; многие воспринимали его как полуюродивого. Молва, как ни странно, оказалась во многом права – в наиболее важные, узловые моменты жизни Мандельштам не раз вел себя именно подобно русским юродивым, в свою очередь продолжившим на Руси древнееврейскую пророчески-обличительную традицию: публичное чтение антисталинских стихов – а, судя по воспоминаниям, поэт читал их далеко не только близким людям – вполне может быть поставлено в один ряд с упреками юродивых в отношении великих князей и царей и заставляет вспомнить поведение Николки из «Бориса Годунова». Имя Мандельштама со временем обросло анекдотами и сплетнями. Одна из них (ничем не подтвержденная) – о совершенной им во времена богемной молодости краже шубы у какого-то зубного врача (см. опубликованное О.А. Лекмановым письмо А. Киппена А. Горнфельду) [193] . Некогда эта болтовня могла быть поэту почти безразлична. Теперь дело принимало очень серьезный оборот.
А.Г. Горнфельд в своем письме в «Красной вечерней газете» задел Мандельштама очень чувствительно – вероятно, не подозревая, как точно он затронул один из важных, повторяющихся образов поэта. Неслучайно Мандельштам выбрал именно это раздражающее место из письма Горнфельда в качестве эпиграфа к своему ответу в «Вечерней Москве». «Когда, бродя по толчку, – писал Горнфельд, – я вижу, хотя и в переделанном виде, пальто, вчера унесенное из моей прихожей, я вправе заявить: “А ведь пальто-то краденое”». Подчеркнем, что, хотя Горнфельд сравнивал произошедшее с кражей пальто, Мандельштам в ответной публикации пишет именно о шубе: «Оставляя на совести Горнфельда тон и выпады его письма с попытками изобразить дело в уголовном разрезе и с упоминаниями о “толчках” и “шубах”… <…>…Я, русский поэт и литератор, подъявший за двадцать лет гору самостоятельного труда, спрашиваю литературного критика Горнфельда, как мог он унизиться до своей фразы о “шубе”?».
«Скорняк драгоценных мехов», «едва не задохнувшийся от литературной пушнины» (имеется в виду, конечно, труд переводчика), Мандельштам отказывается от «литературной шубы» – он хочет быть отщепенцем, маргиналом: таким он начинал свой путь поэта, таким он хочет остаться: «Я срываю с себя литературную шубу и топчу ее ногами» («Четвертая проза»).
Но, отделавшись от шубы «признанного» писателя, поэт видит самого себя превращенным в шубу – воронью. Попробуем понять этот странный образ.
«На вешалке висеть» – не висеть ли на виселице, стать вороньим кормом? Жуткий образ, даже слишком мрачный для тональности «Александра Герцовича». Но подтекст объясняет эту сгущенную мрачность – думается, источником могла быть «Эпитафия (баллада повешенных)» Франсуа Вийона.
Сравним процитированное четверостишие из «Александра Герцовича» с вийоновским оригиналом:
La pluie nous a débués et lavés,
Et le soleil desséchés et noircis;
Pies, corbeaux, nous ont les yeux cavés,
Et arraché le barbe et les sourcils.
Jamais nul temps nous ne sommes assis;
Puis зa, puis la, comme le vent varie… [194]
В переводе Алексея Парина:
Нас раздувала влага дождевая,
Мы ржавели под солнцем, словно жесть,
Нам бороды рвала воронья стая
И силилась глазницы нам проесть.
Нельзя вовеки нам ни встать, ни сесть —
Качаемся круженью ветра в лад… [195]
Воронье выклевывает у повешенных глаза, выдирает волосы из бороды и бровей; тела раскачивает ветер – все это, вероятно, могло быть суммировано в двух строках Мандельштама о «вороньей шубе» и «вешалке».
И в 1920-е, и в 1930-е годы Мандельштам периодически колебался между попытками идти со всеми в ногу, жить «дыша и большевея», и очередным возвратом к принятию отщепенства, признанием правоты противостояния. В последнем случае в сознании поэта всякий раз закономерно возникал «несравненный Виллон Франсуа» – Мандельштам несомненно соотносил свою судьбу, свое положение в мире и литературе с вийоновскими. Неслучайно же он сказал как-то одному из своих собеседников: «Сейчас надо виллонить».
Не исключена и контаминация вийоновской картины с шубертовской песней “Die Krähe” («Ворона») из цикла “Die Winterreise”, «Зимний путь». (Вспомним, что именно Шуберта «наверчивает» «с утра до вечера» Александр Герцович.) На эту связь указал Г. Фрейдин [196] . В самом деле (стихи Вильгельма Мюллера): “Eine Krähe war mit mir / Aus der Stadt gezogen. / Ist bis heute für und für / Um mein Haupt geflogen”. («Ворона вылетела за мной из города и до сего дня все летает вокруг моей головы»; нельзя не вспомнить о русской песне «Черный ворон, что ты вьешься над моею головой?..») И далее: “Krähe, wunderliches Tier, / Willst mich nicht verlassen? / Meinst wohl, bald als Beute hier / Meinen Leib zu fassen?” («Ворона, странное существо, не хочешь меня покинуть? Думаешь, вскоре здесь мое тело станет твоей добычей?») В заключительном четверостишии говорится, что кончина путника действительно близка, недолго ему еще идти с его странническим посохом (Wanderstab). «Посох странника» из песни Шуберта перекликается с фамилией поэта (Мандельштам – «миндальный ствол»). Поэт к таким перекличкам был очень чуток.
Лермонтов, Вийон, Шуберт, возможно, Тютчев… Уместно вспомнить характеристику, которую Мандельштам дал в «Письме о русской поэзии» Иннокентию Анненскому и которая применима к нему самому уж никак не в меньшей мере: «…весь корабль сколочен из чужих досок, но у него своя стать».
И все же мало вяжется вийоновская картина усеявшего тела повешенных воронья с печально-отчаянным, но все же светлым тоном «Александра Герцовича».
Далее. «Воронья» шуба – шуба ворованная; ворона – птица вороватая. Карканье ворон принято сравнивать с клеветой (ср. в мандельштамовском «Открытом письме советским писателям», которое он написал в начале 1930 года в связи с делом о переводе «Тиля»: «Спасибо, товарищи, за обезьяний процесс. А ну-ка поставим в дискуссионном порядке, кто из нас вор… Выходи, кто следующий!.. Но меня на этом вороньем празднике не будет»). Обвинение в литературном воровстве прилипло к поэту, он не мог от него избавиться; само слово «вор» настойчиво звучит в тексте его письма «советским писателям» – выделим искомое прописными буквами: «…это злостный удар по работнику, это сВОРачиванье ему шеи – не на жизнь, а на смерть, где все средства хороши, где все пути дозволены: клевета, лжесвидетельство, крючкотВОРство, фельетонная передержка, где все для безнаказанности сдобрено разгоВОРчиками о “писательской этике”, – это одно из бесчисленных дел, когда неугодного работника снимают с поля деятельности бесчестными способами…». А слова «вор» и «ворона» очевидно перекликаются.