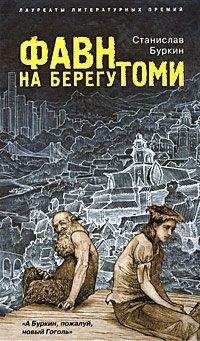— На Хитровку-у-у! И-и-и-их!..
Рысак рванул и понес лихо развернувшиеся санки. Суриков поднялся к себе в квартиру и, не задерживаясь, прошел прямо в зал, служивший ему мастерской. Картина занимала шесть метров в длину и три в высоту. Она стояла на мольбертах вдоль стены с завешанными темными шторами окнами. Свет на нее падал из трех окон противоположной стены.
Это был уже третий холст, и на нем была скомпонована вся сцена. Первый холст оказался совсем маленьким. Ко второму пришлось пришить большой кусок в ширину, и все-таки сани не устремлялись вглубь, не ехали, хоть слева и бежал парнишка в валенках. Парнишка бежал, а сани стояли — не было им разгона. Вот и пришлось выписать новый холст из Парижа. А первые два холста были разрезаны для подготовительных этюдов. Этюды хранились бережно сложенные в заветный кованый сундук, что всегда стоял в мастерской. Суриков часто вынимал их, разглядывал, проверял по ним композицию и снова убирал.
Больше тридцати карандашных рисунков композиции! Множество эскизов было подготовлено, продумано, найдено. И вот уже почти все фигуры врисованы углем в квадраты на громадном холсте. Сани, накренясь, уползали в глубь улицы, а сама боярыня сидела прямая, судорожно прижав одну к другой вытянутые ноги. Уже рядом с санями, в отчаянном жесте сплетши руки, спешила за сестрой княгиня Урусова.
Толпа разделилась на две группы, и, уходя вглубь, мелькали лица, и это море голов расступалось перед бердышами стрельцов, идущих впереди и открывающих путь саням, в которых сидела боярыня, подняв «тонкокостную руку» свою в железном наручнике с тяжелой цепью. В глубине были уже прочерчены купола церкви Николы на Долгоруковской. Была обозначена роспись на церковной стене, заимствованная с росписи собора Василия Блаженного, железная решетка на окне и мальчик, ухватившийся за ставень…
Василий Иванович скинул шубу, уставил на стуле новый этюд и стал угольком врисовывать лицо и фигуру юродивого на передний план справа. Потом отошел, посмотрел на фигуру странника, твердо упершегося в посох. Этот посох и палка в руке нищенки, сидящей рядом с юродивым, подчеркнули неподвижность сидящих на снегу фигур и рывок отъезжающих саней. «А странника мне, может быть, с самого себя писать?»— подумал Василий Иванович и в изнеможении сел на стул посреди мастерской.
Дни, месяцы, годы — целые годы — проходили в поисках типов для картины. Летом восемьдесят шестого года в дачном поселке Мытищи выискивал Василий Иванович последние необходимые детали.
Идет по дачной улице старая богомолка с посохом. Василий Иванович заметил — посох старинный, кованный медью, — схватил альбом, кинулся вслед:
— Бабушка, бабушка, постой-ка! Дай на посох поглядеть!
Старуха, принявшая его за разбойника, испугалась насмерть, бросила посох — и наутек! Так посох и остался в руках художника. Уж он потом любовался, любовался им, разглядывал, зарисовывал и вписал именно его в руку странника.
На Преображенском старообрядческом кладбище жила знакомая старушка — Степанида Варфоломеевна. Суриков просиживал часами, слушая ее рассказы. Она познакомила его с раскольницами и монашенками. Они охотно позировали ему уже за одно то, что он казачьего рода, сибиряк, а еще за то, что не курил. Многие женские образы в толпе пришли в картину с Преображенского кладбища.
Толпа уже была написана вся целиком. Она колыхалась, дышала, то отодвигаясь, то приближаясь к саням. И каждый в толпе жил. Каждый выражал свое собственное отношение к происходящему, кто — восторженное поклонение, как сидящие на снегу нищенка и юродивый, кто — угрюмое раздумье, какое сосредоточилось на лице у странника, или обыкновенное любопытство, с каким выглядывает справа меднолицый татарин, у которого лоб блестит, как начищенный кувшин, или же торжествующую издевку, с какой пересмеиваются стоящие слева поп-никонианец и боярин.
Суриков писал их, наслаждаясь своей властью, своей мощью колористического и исторического видения. Кисть его безошибочно сообщала «светящуюся до мерцания» одухотворенность лицам. Он так точно знал все законы цвета, что распоряжался ими смело и вольготно. Молодую монашенку с испуганными глазами и трагическим изломом бровей он поставил за склонившейся горожанкой в желтом платке и синей шубке. Этот ярко-синий рытый бархат бросал голубой рефлекс на лицо монашенки, и оно становилось еще бледнее и трагичнее. Этого бы не случилось, будь шубка горожанки теплого красноватого тона.
А теплый вишнево-коричневый тон узорного платка соболезнующей старушки бросал розоватый оттенок лицу молодой боярышни в белой расшитой шапке, той самой, что, скрестив руки, выглядывала из-за старухи.
А как озарила розовая рубашка веснушчатые, упругие щеки мальчика справа от возницы! Зато холодный отблеск снега подсинил руку и лицо мальчика, повисшего на заборе, слева.
А сколько воздуха! Все насыщено им. И между лицом седобородого боярина и древком стрелецкого бердыша живая воздушная прослойка — пространство!
Каждый цвет был решен, каждая тень, каждый узор выигрывали от свежести зимнего воздуха. Складка на белом кашемировом платке, шитом цветами, лежала на плече Урусовой широко и свободно. И здесь мастерство суриковской кисти было близко непревзойденному мастерству художников итальянского Возрождения.
И снег, рыхлый снег, клубился, облепляя ноги уходящих людей и полозья. Вот опять рефлекс на снегу — розовый в колее, его дает деревянный полоз теплого коричневого тона.
Влажность от снега поднимается выше, туманит линию горизонта, застилает дымкой уходящие в перспективу лица, золотые купола церквей, и эта дымка насыщает воздухом всю картину.
Черная одежда боярыни проскользнула за скрепы розвальней, оттопырилась и волочится по снегу, как воронье крыло. Движение разведенных рук Морозовой подчеркнуто синеватым блеском цепи, судорожно стиснутые ноги вытянулись под черным бархатом на соломенной подстилке. Все зрело обдуманное, выношенное, объединилось в картине и подчинилось единому замыслу. И не было только одного — лица боярыни. Вместо него оставался стертый мастихином, незакрашенный холст.
Особенно пугало это Елизавету Августовну. Каждый раз она заглядывала в мастерскую в надежде увидеть лицо раскольницы.
— Вася, — говорила она, чуть не плача от беспокойства, — ну скажи ты мне ради бога, до каких же пор так будет? Ведь вчера ты нашел такое хорошее лицо! Ну почему ты стер его?
— Не то, Лиля, не то! Эта опять в толпе затерялась, толпа забивает. Понимаешь? Слабая она получилась, глядеть- то на такую толпа не станет. Надо еще искать… — Он поднял с пола этюд маслом, на котором была изображена голова женщины в черном платке. Худое бледное лицо с чуть приоткрытым ртом носило отпечаток растерянности. Этюд был превосходный, но это была не Морозова.