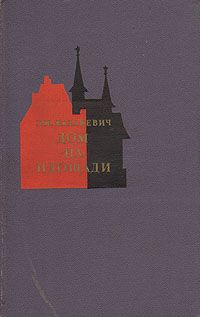Аня так и не вышла из тюрьмы. Ее очень мучили во время допросов. Маргарету же - вероятно, ввиду ее германской крови - почти не избивали, только однажды ее избили до крови, но не очень больно.
Это было страшное время.
Оганесян слушал с глубоким вниманием. Он улавливал в словах Маргареты и даже не так в словах, как в интонации, горький цинизм, неверие в людей, в их честность и порядочность. Вероятно, она была в достаточной степени испорчена, все казалось ей трын-травой. А может быть, то была только защитная окраска, следствие трехлетних унижений и необходимости как-нибудь выжить, уцелеть в этой бродячей жизни, похожей на просторную мышеловку.
Рассказав все о себе, Маргарета в свою очередь засыпала Оганесяна вопросами. Она хотела знать, что будет после войны. Повесят ли Гитлера?
Правда ли, что в России нет помещиков и вообще богачей? Верно ли, что в России все коммунисты? И коммунист ли капитан Василь? И выходят ли замуж в России? Потому что в газетах писали, что в России не выходят замуж и не женятся, а живут как попало.
Оганесян вскипел и сказал, что это наглая ложь и что газеты врали, а врали именно потому, что в России действительно нет помещиков и вообще богачей. Тогда Маргарета поинтересовалась, женат ли Оганесян. Он ответил, что женат, и в доказательство показал Маргарете фотографию своей жены.
Маргарета очень внимательно и довольно долго глядела на фотографию красивой большеглазой женщины в меховой шубе.
- Красивая у вас жена, - сказала она тихо; помолчав, она спросила, женат ли капитан Василь.
Оганесен перевел ее вопрос Чохову.
- Нет, - сказал Чохов.
Маргарета поняла, вспыхнула и поспешно спросила:
- Верно, что в России всегда мороз?
Оганесян рассмеялся. Потом он принялся объяснять ей, что такое Россия и что на юге там растут лимоны и апельсины, а на крайнем севере, на берегах Ледовитого океана, действительно, холодно. В центральных же областях обычный европейский климат. И, рассказывая о России, Оганесян стал красноречивым. Задрожавшим от волнения голосом он стал перечислять красоты родной страны, он поведал девушке о снежных горах Кавказа, о прямых проспектах Ленинграда и Москвы, о богатых колхозах и бескрайных полях.
Она слушала очень внимательно, иногда переспрашивая: "Да?", "Вот как?" - и время от времени говоря как будто себе самой: "Об этом надо обязательно рассказать дома".
Она спросила, можно ли ей поехать в Россию. "Там очень хорошо", добавила она.
Оганесян, подумав, ответил, что нужно повсюду сделать так, как русские сделали у себя.
- Так нам объяснил и ваш сержант с усами, - сказала девушка, удивившись такому единодушию. - Нам Марек переводил. Это у нас есть чех, который по-русски понимает.
Она уже встала, чтобы уйти, но вдруг остановилась в дверях и сказала с явно подчеркнутой скромностью, прикрыв синие глаза длиннющими ресницами:
- Я говорила вашим товарищам, что у меня есть муж. Так это совсем не муж, это просто Виллем Гарт из Утрехта. Я так говорила, чтобы солдаты не приставали... Я незамужняя.
И Маргарета выбежала из комнаты.
- Бедняжка! - сказал Оганесян. Он перевел Чохову последние слова девушки, потом задумчиво проговорил: - С нее бы картину написать на тему "Европа, похищенная быком..." Но бык должен быть не белый красавец, как художники писали раньше, а худой, яростный, дикий и отвратительный, как фашизм.
Чохова мифологические сюжеты не интересовали. Когда Оганесян ушел, Чохов остался у стола, полный смутных и торжественных мыслей о себе и о мире.
VIII
Прежде остальных дивизий корпуса в бой вступила дивизия полковника Воробьева. Первые раненые, появившиеся в медсанбате, рассказывали о немецких танковых атаках, беспрерывных и упорных.
Вскоре появились и немецкие бомбардировщики, которые сбросили на деревню, где расположился медсанбат, несколько бомб.
Началась привычная фронтовая жизнь, полная тревог.
Поздно ночью пришла машина из штаба дивизии с приказанием ведущему хирургу прибыть на НП командира дивизии.
Офицер, приехавший на машине, все время торопил Таню, но в чем дело, не говорил. Он только сказал ей, чтобы она захватила с собой все, что нужно для операции.
Поехали. Машина миновала несколько разрушенных деревень, вскоре свернула на узенькую тропинку и затряслась по подмерзшим кочкам поля. Все вокруг грохало и стонало. Пулеметная стрельба раздавалась очень близко.
В ложбинке, возле небольшого, поросшего молодыми елками холма, машина остановилась, офицер спрыгнул, помог Тане выйти и сказал:
- Здесь пойдем пешком.
Они стали подыматься на холм. Впереди и справа рвались снаряды. Вскоре Таня увидела свежевыкопанную траншею, которая вела вверх, к вершине холма.
- Пожалуйте сюда, - пригласил Таню офицер таким жестом, словно он открывал перед нею дверь в театральную ложу.
Она пошла по траншее. Здесь было грязно и мокро. Траншея привела ее к входу в крытый бревнами блиндаж.
В полутемном помещении на полу и у отверстий амбразур сидели люди. Кто-то, совершенно охрипший, разговаривал по телефону.
- Врач прибыл? - спросили из темноты.
- Да.
Открылась деревянная дверка.
- Заходите, Кольцова, - услышала Таня голос командира дивизии.
На столике за перегородкой горела свеча. При ее тусклом свете Таня увидела полковника Воробьева, полулежавшего на топчане. Он протянул ей большую белую руку с засученным рукавом и молодцевато сказал:
- Чур, никому не рассказывать! А то подымут шум, прикажут уйти в тыл. Пустяковая царапина. Посмотрите.
Рана оказалась не такой пустяковой. Немецкая пуля, правда, уже на излете, по-видимому засела пониже сгиба, в мягкой ткани руки.
- Придется отправляться в медсанбат, - решительно сказала Таня.
- Никуда я с НП не пойду.
- Пойдете, товарищ полковник.
- Не пойду. У меня дивизия воюет. Немец напирает. А вы: "Пойдете, пойдете!"
- Если вы не послушаетесь меня, я немедленно сообщу комкору и командарму - и вам прикажут.
Воробьев сказал обиженно:
- А я вам не разрешаю сообщать. В моей дивизии я командир.
- До первого ранения, - возразила Таня. - Раз у вас пуля в руке, командир я.
- А я вас отсюда не выпущу.
- Этого вы не сделаете. У меня раненых много. Не один вы.
Воробьев сказал умоляюще:
- Кольцова, голубушка!.. Я же вас прошу!.. Будьте так добры!.. Разве я улежу в медсанбате!.. Я же не улежу! Делайте операцию здесь. - Он тихо добавил: - В дивизии потери большие...
Таня, поколебавшись, приказала принести воду для мытья рук.
Вокруг засуетились. Таня разложила инструменты и начала оперировать. Комдив не издал ни звука, ни стона. Позвонил телефон. Воробьева вызывал командарм. Он взял трубку здоровой рукой и, морщась от боли, отвечал командарму с напускной бодростью: