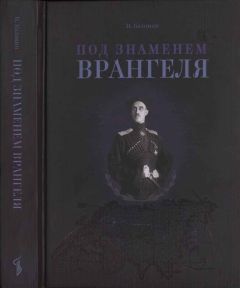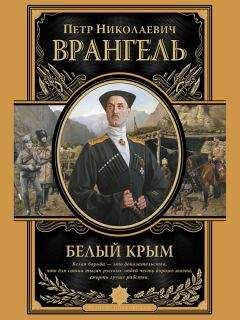В строй становится не более 70 человек.
Чернов суетливо разделяет людей на взводы, назначает командиров. А по деревне в это время разливаются веселые трели пастушьего рожка. Пастуху нет дела до того, что происходит у нас и что теперь творится в Токмаке. Нет дела до нашей напасти и крестьянам. Из дворов, как ни в чем не бывало, бабы выгоняют коров, пастух, хотя и с трудом, собирает скотину в стадо. Наше столпотворение деревню не трогает. Она живет и хочет жить мирной жизнью. Воюем мы, пришельцы, с которыми крестьянство не чувствует никакого родства.
Когда я повел заставу в сторону Токмака, солнце уже поднялось на горизонте и представило нашим глазам «пышное природы увяданье». Но октябрьский пейзаж степной деревни менее всего интересовал нас в эту минуту. Нам самим грозило не только увяданье, но и смерть.
Из Токмака все еще тянулись группы пеших. Некоторые запоздали потому, что брели по пахоте, не рискуя итти по дороге, по которой мог двинуться и неприятель.
Стой, кто идет? — раздается окрик за скирдой соломы, где стоит часовой.
Свои! Свои! «Войско Донское», — слышу знакомый голос полковника Слюсарева, члена военно-судебной
комиссии при штабе корпуса.
Вскоре из-за скирды выглядывает его желтоватое, безбородое, как у скопца, лицо. В зубах — неизменная трубка. Рядом с ним шагает другой член той же комиссии полк. Астахов. Бывший грозный полицейместер Таганрога в самом растерзанном виде. На нем нет лица, равно как и никакой одежды, кроме шинели.
Батюшка, Иван Михайлович… Помилуйте… Так разве можно служить? Этак и пропасть можно ни за грош, — жалостливо лепетал он в смертном ужасе, прижимая руки к полам шинели, чтобы скрыть свое полуобнаженное тело.
Я чуть не лопнул со смеху.
Подзакусить, господин полковник… Пышечки! Где ты их достал, Маркуша?
Забежал в хату, баба пекет, выпросил.
И тебе не стыдно? Мог бы и денег дать.
Чего их жалеть, чортовых хохлов! Они тоже казаков грабили.
Маркуша — казак старого закала. Ему тщетно доказывать, что чем же виноваты крымские крестьяне, если они, казаки, у себя на Дону не ладили с «иногородними», если хохлы станицы Семикаракоровской два года тому назад сожгли его амбар с хлебом и увели пару волов.
Война меня разорила, отчего же мне других жалеть!
Такова была логика казачьей черни.
Эропланы кружатся над дорогой в Куркулак… Сколько их… раз… два… Этот спускается… три… четыре.
Надень очки: не четыре, а семь!
Они, почитай, всю ночь кружились над степью. Выкараулили.
Гляньте-ка: взрыв! Бросают бомбы.
Дорога в Орехов через Куркулак от нас верстах в пяти. Ее в небе обозначает цепь аэропланов, а на земле ряд страшных столбов пыли и дыму, то и дело взвивающихся все севернее и севернее Токмака. Красная конница, по всей видимости, оставила селение и пошла на север западнее нас, преследуемая воздушной эскадрильей.
Мы пока что в безопасности.
Зададут им перцу…
Также было и со Жлобой: закидали бомбами.
Добегут до Куркулака, спрячутся в хатах. По хатам наши не будут бросать бомбы.
Налюбовавшись картиной боя аэропланов с конницей, я послал ген. Чернову донесение о том, что неприятель, по всем данным, покинул Б. Токмак и двигается на север и что нам целесообразнее всего послать вооруженный грузовик на разведку, чтобы узнать, не хозяйничают ли в Токмаке остатки красных или местные хулиганы-махновцы.
Прошло полчаса.
Из Сладкой Балки я не получил никакого ответа. Через час тоже.
Отправился сам в село, — оно уже опустело. Как оказалось, храбрый генерал еще до моего донесения, ни с того, ни с сего, уселся на грузовик с пулеметом и, забыв о своей начальнической роли, о том, что разосланы заставы, умчался в Орехов. Видимо, ему все еще чудилось, что большевики гонятся по его пятам.
Разношерстный тыловой сброд, неспособный к организации, последовал, как баранье стадо, за перепуганным боевым генералом.
Я и горсть моих случайных подчиненных оказались в самом диком положении. Каждый из нас понимал, что движение на север скорее приближало к неприятелю, чем отдаляло от него. Но и возвращение в Токмак группой в 10–12 человек тоже составляло не малый риск.
Не ходил ли генерал Чернов на телеграф? — мелькнуло у меня в голове. — Не снесся ли он с командиром корпуса и не получил ли от него какой-нибудь директивы?
Быть может и так! — согласился мой товарищ по несчастию, марковский поручик. — Тогда что же, — в Орехов!
На площади стояла мажара, запряженная парой добрых лошадей. Один Аллах знал, кто ее хозяин. Солдаты не замедлили завладеть ею.
За Сладкой Балкой мы обогнали громадную толпу военнопленных. Грязные, жалкие, босые, оборванные, как всегда. Их охрана, перепугавшись красных налетчиков, убежала вслед за Черновым.
Куда вы-то?
Не знаем… Нас все бросили… Вдогонку за своим начальством. Не отставать же.
Вот если бы это были сознательные враги, что они могли бы сейчас наделать у нас в тылу! — заметил мар- ковец.
Да! Их целая армия. Вятские, товарищи?
Вологочкие… Дядинька, нет ли покурить?
Тут тебе господин полковник, а не дядинька, — грубо оттолкнул Маркуша попрошайку от нашего Ноева ковчега.
Верстах в трех от Орехова мы заметили по гребням крошечных возвышенностей рассыпанные цепи. Это гарнизон г. Орехова, наша комендантская сотня, сторожил неприятеля. Полковник Греков, стоя на кургане возле пулемета, рассматривал в бинокль окрестности.
Где генерал Чернов?
Без памяти промчался в Орехов.
Куда же эта тыловая армия движется дальше?
Я посоветовал направиться на восток, под защиту строевых частей.
А где красная конница? Есть сведения?
Она где-то вертится между Куркулаком и Ореховым. А может быть, еще сидят в Куркулаке, пока день. Ночью куда-нибудь выступят. Я получил телеграмму окольным путем из Мелитополя, что в Токмаке их нет и что надо быть наготове, так как захотят где нибудь прорваться к своим.
Что они в Токмаке натворили?
Не знаю. Сообщение непосредственно с Токмаком прервано. Орехов превратился в громадный базар. Многие, оказывается, выехали прямо сюда, не останавливаясь в Сладкой Балке. Страх гнал людей на север, по направлению фронта. Здесь, в Орехове, под защитой комендантской сотни с несколькими пулеметами, тыловой сброд чувствовал себя уже легче. Раздавался невероятный галдеж, местами даже хохот и шла вовсю реквизиция лошадей в предместьях.
После полудня этот гигантский цыганский табор выступил на восток, направляясь в Пологи.
Здесь, на границе Таврической и Екатеринославской губерний, очень рельефно вырисовывалась работа «Батьки». Кстати, не так далеко отсюда лежало и Гуляй-Поле, его родина и главный притон его неуловимой армии. Куда ни взглянешь по сторонам дороги, то торчат трубы разрушенных экономик, то чернеют развалины крестьянских хуторов, то среди деревень зияют громадные плеши — выжженные кварталы. «Идейный» противник Советской власти, как его сначала расценивали врангелевские газеты, хорошо поработал для «спасения» России!