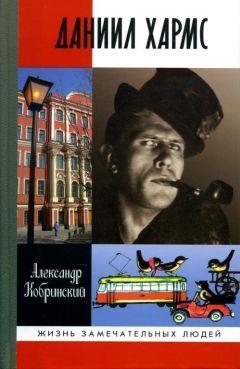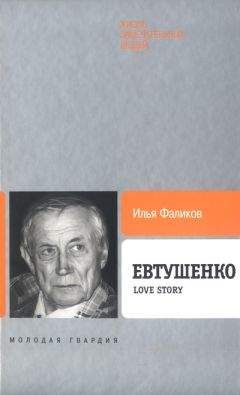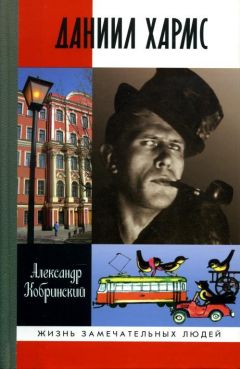В августе Хармс и его друзья предпринимают попытку добиться признания уже не только в пределах СССР, но и за границей. У Хармса были довольно теплые отношения с художником Павлом Мансуровым — значительной фигурой русского авангарда. Мансуров получил разрешение выехать со своей выставкой в Италию и, судя по всему, заранее принял решение не возвращаться обратно (после выставки он поселился в Париже). Обэриуты решили передать с Мансуровым свои произведения для ознакомления с ними представителей русской эмиграции. Одновременно они пытались придать ОБЭРИУ официальный статус «общества, не преследующего целей выгоды», как это формулировалось по тогдашним законам, для чего начали собирать необходимые документы. Общество было названо «СОДЕК» (расшифровка неизвестна). Разумеется, из этого также ничего не вышло.
Двадцать первого августа с Мансуровым за границу были отправлены произведения Б. Левина, И. Бахтерева, Д. Хармса, А. Введенского, К. Вагинова и Н. Заболоцкого. Хармс отправлял «Елизавету Бам», а также стихотворения «Казачья смерть», «Авиация превращений», «Скупость», «Фокусы!!!», «Серенада» и стихотворную сценку «Искушение». На его долю выпало 2,5 печатных листа текста, тогда как все остальные получили лишь по одному листу. Более того — с Мансуровым была заключена договоренность о том, что обэриуты будут ему впоследствии присылать свои произведения в письмах — для публикации в эмигрантских изданиях. Хармс был настолько уверен в успехе, что даже обговаривал с Мансуровым способы выплаты обэриутам гонорара за их произведения!
Но — увы — здесь поэтов тоже ждала неудача. После отъезда Мансурова контактов с ним у обэриутов больше не было, а о судьбе посланных с ним произведений мы до сих пор ничего не знаем.
Помимо попыток прорваться в печать Хармс старается организовать выступления группы. При этом он соглашается не только на обычные литературные вечера, широко распространенные в то время, но даже и на выступления в ресторанах. Совершенно в традициях русского авангарда он включает в поэтику бытового поведения и кулинарию. Так, например, художник Михаил Ларионов в 1913 году предлагал ввести в практику употребление не только говядины, но также мяса собак, кошек, крыс, летучих мышей, ежей, ворон, ужей и т. п. Что касается овощей и фруктов, то сутью концепции Ларионова было самое фантастическое сочетание разных продуктов. Котлеты предлагалось делать из мяса с добавлением рома и груши. Гусь должен был жариться с абрикосами, огурцами, ванилью, вишневыми листьями, а суп следовало варить из вина с примесью перца, поросячьих ушей и фигурок зверей, вылепленных из теста. Своеобразным поэтом кулинарии стал инженер Торопуло — герой романа Константина Вагинова «Бамбочада», писавшегося в 1929—1930 годах. Торопуло всю свою жизнь посвятил еде, организовав вокруг кулинарии общение друзей, собирая кулинарную литературу, посвященную еде и поварскому искусству живопись...
Хармс предложил ставить в ресторанах театрализованные акции. Пить кофе с огурцами, чай с яйцами, тянуть молоко из трубочки, есть селедку с молоком, а чай — с морковью. Предлагалось также:
Сидеть с закрытыми глазами.
Иметь через плечо вышитое полотенце.
Ножницами резать огурцы?[9]
Разогревать свои кушанья.
Играть за пивом в оловянных солдатиков.
Подвязывать салфетки и кормить друг друга.
Прийти в латах.
Всем троим заикаться.
Черные очки.
«Кулинарные» мотивы планировалось перенести и в обычные театрализованные вечера. Сохранился проект одного такого вечера в конце октября 1928 года, где наряду с литературным докладом, в частности, предполагалось чтение доклада «астрономического» (возможной альтернативой последнему был «доклад о червях»). Во время вечера, наряду с выступлениями поэтов, предполагались также мелодекламация и номера жонглера. На этом же вечере на сцене планировалось «есть суп, пить фиолетовую и зеленую жидкость» (забавно, что после этого следовала зачеркнутая запись: «Сходить с Вагиновым в сумасшедший дом»). Увы — не всегда это воспринималось адекватно. По воспоминаниям свидетелей этого вечера, некоторые не слишком «продвинутые» в авангардном искусстве зрители восприняли поедание супа вполне иронично и совершенно не так, как на это рассчитывали обэриуты: «Молодые ребята, понятно — голодные...»
В конце сентября в Ленинград приехал Маяковский — в Капелле был назначен его вечер с диспутом. Обэриуты решили воспользоваться случаем и еще раз заявить о себе. Проект декларации для прочтения во время диспута было поручено составить Заболоцкому, а Хармс накануне вечера понес этот подписанный всеми членами группы текст Маяковскому в гостиницу «Европейскую». По словам Бахтерева, Маяковский принял Хармса доброжелательно, но от чтения декларации отказался, сославшись на то, что он все равно услышит ее в Капелле.
Вечер Маяковского состоялся 29 сентября 1928 года. Вот как вспоминал о выступлении на нем обэриутов Бахтерев:
«На следующий день семь обэриутов стояли на эстраде Капеллы (восьмой — Олейников — по служебно-дипломатическим соображениям выйти на эстраду отказался). Произнести декларацию с короткими примерами обэриутского творчества было поручено Введенскому.
Выйдя на авансцену и объяснив, что мы не самозванцы, а творческая секция Дома печати, он огласил результат нашего коллективного сочинения, что заняло минут двадцать. Не избалованная подобными выступлениями публика слушала Введенского внимательно. Когда же Александр замолчал и присоединился к стоявшим на эстраде обэриутам, раздались негромкие хлопки.
За кулисами к нам подошел сопровождавший Маяковского Виктор Борисович Шкловский.
— Эх, вы! — сказал он. — Когда мы были в вашем возрасте, мы такие шурум-бурум устраивали — всем жарко становилось. Это вам не Институт истории искусств. Словом, надо было иначе...
Как мы ни старались убедить Виктора Борисовича, что перед нами стояла узко информационная задача, он не сдавался.
По правде говоря, каждый из нас был убежден, что Шкловский забыл институтскую встречу, а помянул институт лишь после того, как мы ему напомнили, что уже знакомы.
— В вашем возрасте мы жили веселее, — продолжал Шкловский. — У нас без шурум-бурум не обходилось. Да и примеры меня не очень удовлетворили, можно было подобрать поинтереснее, поголосистее.
„Конечно, не помнит“, — подумал я и тут же понял, что ошибся, — память у Шкловского оказалась не хуже нашей.
— Для таких выступлений, — говорил он, — необходим плакат. Не верите мне — спросите Владимира Владимировича. Здесь шапочка была бы уместнее, чем в Институте. Почему вы не в шапочке? — обратился он к Даниилу.