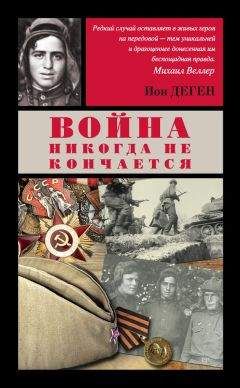Яир отобрал меня в десятку последних, кто останется в живых в нашей крепости.
Только что мы попрощались с родными, с друзьями, с воинами, с которыми еще в Иерушалаиме плечом к плечу сражались против римлян, а здесь за три года обороны крепости стали роднее родных.
Мы убивали их, стараясь не плакать. Они умирали, стараясь не кричать.
У нас не было другого выхода. Завтра, нет, уже сегодня, – уже бледнеют звезды и над Моавом рождается утро, – римляне из башни проломают стену. Воины могли бы погибнуть в бою. А что будет с нашими женами и детьми? Мы перестали быть рабами, когда Моше вывел наших праотцов из Египта. Мы не хотели, чтобы наши жены и дети снова стали рабами.
Лучше увидеть мою Ципору и маленького Давида мертвыми, чем в римском рабстве.
Я не увидел их мертвыми. Я убивал в соседней пещере. Я не знаю, кто из моих друзей убил Ципору и маленького Давида.
А сейчас Яир убьет меня, и восьмерых моих друзей, и убьет себя.
Яир всегда любил меня. И я любил Яира. Ему нравились мои песни. Странно. Яир – герой. А песни у меня грустные. Песни о войне.
Я хотел сочинять псалмы, как у царя Давида. Но у меня почему-то получались грустные песни о войне. Сочинять я начал только здесь, в крепости.
В бою я умел прятать свой страх. Друзья считали меня смелым. Даже Яир. А из песен проступал мой страх. В песнях я был обнаженный, как новорожденный.
Вот этот короткий римский меч, на котором еще не свернулась кровь евреев, кровь самых близких мне людей, я однажды взял, чтобы доказать самому себе, что я не трус.
Меня потом ругали все, кричали, что я мальчишка, что никому не был нужен этот глупый героизм. Но я знал. Он был нужен мне.
Полгода назад, в такую же предутреннюю пору я тайком спустился по Змеиной тропе в римский лагерь. Я задушил часового. Забрал у него этот меч. Вырезал девять римлян в шатре. Ни один из них не успел проснуться. Я тихо выбрался на Змеиную тропу и поднялся в крепость.
Яир кричал на меня. Но я знал, что в глубине души он гордится моей проделкой.
Сейчас я должен вернуться к нему. Когда римляне ворвутся в крепость, они найдут в ней достаточные запасы воды и пищи. Они заберут наше оружие. Но ни один еврей не попадет к ним в рабство. Ни один.
Мне было невыносимо трудно убивать своих. Яиру будет очень трудно убить меня.
Может быть, я сам? С усилием я воткнул рукоятку римского меча в расщелину между камнями стены. Конец лезвия возле левого соска. Прощай все, что я так любил, что я так ненавидел. Изо всей силы я навалился на меч.
Боже мой, какая адская боль!
Печально, что эта душа вновь обречена претерпеть уже испытанные ею страдания.
Счастье, что в новом теле она не помнит того, что было в прошлой жизни.
У души есть свобода выбора. В ситуации, подобной пережитой в прошлом, в забытом, в неосознанном она не обязательно должна повторить все то, что совершила тогда.
Новый поступок может изменить причинно-следственную цепь.
Душа не всегда обладает всеми шестью степенями свободы. Но даже одной степени вполне достаточно для большой амплитуды колебаний между Добром и Злом. Бесчисленное количество отрезков на этой дуге. У души есть свобода выбора любого из этих отрезков.
Сегодня ровно десять месяцев осады нашей крепости. Сегодня в полдень истекает срок ультиматума, предъявленного полякам.
Вчера с высоты вала я видел, как этот убийца, Богдан Хмельницкий, гарцевал на своем жеребце, подбадривая головорезов. Они убили почти всех евреев в окружающих местечках. Только очень немногим удалось укрыться в нашей крепости или удрать в леса за рекой.
Десять месяцев. Мы обложены со всех сторон. Сколько раз они бросались на штурм, и каждый раз мы отражали их атаки. Каждый раз казаки оставляли у подножия стены горы трупов. Даже сейчас, на исходе зимы, можно задохнуться от смрада. А что было летом!
Из каждых десяти человек в крепости на трех поляков приходится семь евреев. На стене мы сражались плечом к плечу. За эти десять месяцев поляки стали относиться к нам значительно лучше, чем раньше. Они не перестают удивляться нашему героизму. Они считали евреев покорненькими. А сейчас они знают: не будь нас, казаки давно овладели бы крепостью.
Но сегодня, после десяти месяцев осады, они все-таки овладеют.
Уже на Суккот в крепости почти не осталось еды. Почти полгода мы жили неизвестно чем.
Через месяц после Хануки умерших от голода уже не закапывали. Только слегка присыпали промерзшей землей.
Не могу себе представить, каким образом Фейгеле сохранила нашего маленького Давида до этой ночи. Почти все старики и маленькие дети умерли еще месяц назад.
Вчера казаки предъявили полякам ультиматум. Если они выдадут им жидов, украинцы не только пощадят поляков, но даже сохранят оружие ясновельможному пану.
Поляки голодают не меньше нас. У них уже нет сил сопротивляться. Но как они могут выдать жидов, если нас больше, чем поляков?
Вечером рабби собрал в синагоге всех боеспособных мужчин. Не пришли только те, кто караулил возле ворот вместе с поляками.
В последние дни в воздухе повисло недоверие. Мы боялись, что поляки впустят в крепость украинцев. А тут еще этот ультиматум.
У нас очень умный рабби. Ему нравились мои стихи. Странно. Наш рабби – герой. Во время каждой атаки рабби рядом с нами на стене. Он не только молился за нас, но даже подавал ведра с расплавленной смолой. Ксендза мы никогда не видели на стене. Он молился только в костеле.
Рабби действительно герой. Поэтому странно, что ему нравятся мои стихи. Они грустные. Стихи о войне. Мне хотелось сочинять другие. О том, как я люблю Фейгеле. О том, как красив лес – и осенью, когда он пылал желтым и красным, и сейчас, зимой, уснувший под белым одеялом. О том, как красива улыбка моего маленького Давида. Но он перестал улыбаться и только плакал от голода.
До войны я не сочинял стихов. В бою я умел преодолеть свой страх. В крепости меня считали смелым – и свои, и поляки. Даже рабби. Хотя такой умный человек не мог не заметить страха, пропитавшего мои стихи. В них я был обнаженным, как новорожденный.
Вот этот пистоль и дорогой кинжал я однажды взял, чтобы доказать самому себе, что я не трус.
Это было осенью. Я уговорил Менаше помочь мне. Он долго не соглашался, но потом махнул рукой. Он знал, что если я что-нибудь вбил себе в голову, то никто не отговорит меня от задуманного.
Возле стены я соорудил ворот, а на стене укрепил блок. В такую же, как сейчас, предрассветную пору я спустился со стены на канате.
Часовой, усатый казак, дремал, опершись на ружье. От него на версту несло сивухой. Без труда я задушил часового и забрал у него дорогой кинжал. В курене я вырезал шестерых спящих казаков. Взял еще этот пистоль.