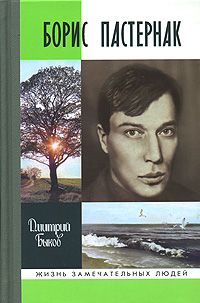В романе рождественские мотивы оказываются связаны не только с главой «Елка у Свентицких» и стихотворением «Рождественская звезда», но и со стихотворением «Зимняя ночь» и с размышлениями главного героя о Блоке. Эти связи также подробно рассмотрены в разных аспектах в работах С. Витт, П. Йенсена, П. А. Бодина.
Незадолго до начала работы над романом, в 1943 году Пастернак написал стихотворение «Вальс с чертовщиной». Интересно проследить основные нити, связывающие его с предшествующими соприкосновениями с елочно-рождественской темой и с мотивами, сопряженными с этой темой в «Докторе Живаго».
Только заслышу польку вдали,
Кажется, вижу в замочную скважину:
Лампы задули, сдвинули стулья,
Пчелками кверху порх фитили, —
Масок и ряженых движется улей.
Это за щелкой елку зажгли.
Великолепие выше сил
Туши, и сепии, и белил,
Синих, пунцовых и золотых
Львов и танцоров, львиц и франтих.
Реянье блузок, пенье дверей,
Рев карапузов, смех матерей,
Финики, книги, игры, нуга,
Иглы, ковриги, скачки, бега.
В этой зловещей сладкой тайге
Люди и вещи на равной ноге.
Этого бора вкусный цукат
К шапок разбору рвут нарасхват.
Душно от лакомств. Елка в поту
Клеем и лаком пьет темноту.
Все разметала, всем истекла,
Вся из металла и из стекла.
Искрится сало, брызжет смола
Звездами в залу и зеркала
И догорает дотла. Мгла.
Мало-помалу толпою усталой
Гости выходят из-за стола.
Шали, и боты, и башлыки.
Вечно куда-нибудь их занапастишь!
Ставни, ворота и дверь на крюки,
В верхнюю комнату форточку настежь.
Улицы зимней синий испуг.
Время пред третьими петухами.
И возникающий в форточной раме
Дух сквозняка, задувающий пламя,
Свечка за свечкой явственно вслух:
Фук. Фук. Фук. Фук.
При первой публикации в сборнике «Земной простор» 1945 года оно было озаглавлено «На Рождестве» – так же, как при первой публикации в детском журнале «Тропинка» блоковское стихотворение 1906 года, позже печатавшееся под заглавием «Рождество» («Звонким колокол ударом…»). У Блока описано детское праздничное наряжание елки, причем в качестве «знаковых» украшений называются бусы и яблоки, напоминающие о строках соседнего «елочного» стихотворения Пастернака «Вальс со слезой»: «Яблоне – яблоки, елочке – шишки, Только не этой, эта в покое…» и о «Рождественской звезде»: «…Все яблоки, все золотые шары…».
Объясняя знаменитый пассаж из романа «Доктор Живаго», что «Блок – это явление Рождества во всех областях русской жизни», связанный с замыслом стихотворения «Рождественская звезда», П. А. Бодин цитировал блоковскую статью «Безвременье»:
«Был на свете самый чистый и светлый праздник. Он был воспоминанием о золотом веке, высшей точкой того чувства, которое теперь уже на исходе, – чувства домашнего очага.
Праздник Рождества был светел в русских семьях, как елочные свечки, и чист, как смола. На первом плане были большое зеленое дерево и веселые дети; даже взрослые, не умудренные весельем, меньше скучали, ютясь около стен. И все плясало – и дети, и догорающие огоньки свечек.
Именно так чувствуя этот праздник, эту непоколебимость домашнего очага, законность нравов добрых и светлых, Достоевский писал (в “Дневнике писателя”, 1876 г.) рассказ “Мальчик у Христа на елке”, когда замерзающий мальчик увидал с улицы, сквозь большое стекло елку и хорошенькую девочку и услышал музыку, – это было для него каким-то райским видением; как будто в смертном сне ему привиделась новая и светлая жизнь. Что светлее этой сияющей залы, тонких девических рук и музыки сквозь стекло?»[164]
Из этого фрагмента статьи как будто протягиваются нити и ключи ко многим образам и мотивам, сопряженным с Рождеством в романе, – традиционно заведенному семейному веселью в доме Свентицких, чужой «девочке из другого круга» на этом празднике, всему «достоевскоподобному» клубку отношений Лары, ее оскорбителя Комаровского и брата Родиона, которому она пытается помочь, сжимая рукоятку револьвера. Взгляд Достоевского мальчика с улицы не может не напомнить и взгляда Юры на окно комнаты в Камергерском, как раз когда он вспоминает о Блоке.
Обратим внимание, что стихотворение «Вальс с чертовщиной» также в первой же строфе задает определенную дистанцию, если не отчужденность наблюдающего от праздника вокруг елки: «вдали» и «вижу в замочную скважину». Кроме того, несомненно, что в 1940-х годах вся картина рождественской елки с ряжеными в двухэтажном особняке была картиной, всплывающей из далекого дореволюционного прошлого.
Похоже, что этот мотив отчужденности был связан и с восприятием рождественской елки самим Пастернаком. Вспоминая впечатление от елки в детстве в письме сестре – Ж. Л. Пастернак в январе 1926 года, он описывает ее почти в тех же выражениях «великолепия выше сил» и в окружении восточных сладостей, но с неизбежной долей отстраненности: «В доме тоже тишина, оттого что чистые скатерти, полы натерты, и этот редкий порядок не располагает к суете и бессмысленным движеньям. Елка, орехи, пастила, жареный гусь, бестолковый вкусный ералаш, разные сорта водки и вина, ковры и портьеры. Мы, помнится, столбенели от елок, и великолепье сковывало нас в движениях, и что-то другое, связанное с мыслью о родителях, печалило».[165]
Этот взгляд на елку из-за двери в стихотворении дополнительно подчеркивается единственным на весь текст дактилическим окончанием строчки, к которой единственной во всем тексте вообще не оказывается рифмы:
Кажется, вижу в замочную скважину…
Картина, открывающаяся через замочную скважину, в свою очередь может ассоциироваться с еще одним литературным источником, который не вспоминался в романе «Доктор Живаго» в связи с рождественскими мотивами, но в других местах текста отзывался, – пушкинским романом «Евгений Онегин». Татьяна в святочном сне в щелку смотрит на страшный праздник в хижине, куда ее приносит медведь, а за сном Татьяны в пятой главе романа следуют именины, частично повторяющие ночные видения героини. Несколько деталей в описании именин могут быть сопоставлены с текстом Пастернака. Например, «улей» масок и ряженых, появляющийся после сдвигания стульев, возможно соотнести с XXXV строфой:
Гремят отдвинутые стулья;
Толпа в гостиную валит:
Так пчел из лакомого улья
На ниву шумный рой летит.
А строка «Рев карапузов, смех матерей» может напомнить концовку XXIV строфы:
…Шум, хохот, давка у порога,
Поклоны, шарканье гостей,
Кормилиц крик и плач детей.
Онегинские аллюзии могут объяснять появление слова «чертовщина» в окончательном заглавии стихотворения – сон Татьяны в сочетании со взглядом в «скважину» и даст мотив появления святочной нечисти, которой в самом стихотворении почти нет. Лишь конец рождественской праздничной ночи обозначает Пастернак так, как в народных поверьях обозначается финал власти нечисти, чертовщины – «время пред третьими петухами». С пением петухов кончается ночное всевластие демонов. Интересно отметить то, что Пастернак пишет не просто о петушином крике, но о «третьих петухах». Возможно, здесь появляется как раз соединенный и с мотивом отчужденности, одиночества мотив, связанный уже не с праздником, а с апостолом Петром, который в страшной ночи до того, как трижды пропоет петух, трижды отрекается от своего Учителя. Таким образом, в финале рождественской темы возникает напоминание о финале земной жизни Христа[166]. Мотив отчужденности, несколько трансформируясь в разобщенность (разъединенность) вновь возникает к концу стихотворения, отчетливо противопоставленный всеми средствами подчеркнутому единству середины стихотворения. Напряженность парных мужских рифм 2-й, 3-й и 4-й строф уже в предпоследней строке 4-й строфы сменяется появляющимся женским окончанием «усталой». Укорачиваются предложения: в первых двух строфах всего по два предложения – самое длинное из них занимает пять строк, а в последней строке (при том, что разные издания дают разную пунктуацию) не меньше восьми. С мотивом разобщенности связан и называемый процесс запирания ставней, ворот и двери.