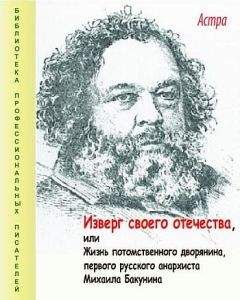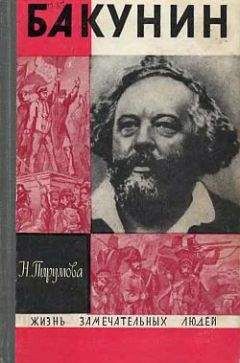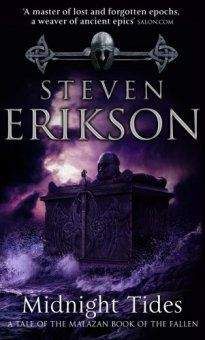— Оказывается, — удивился знаменитый композитор, — русского человека легко можно убедить в том, что предать огню замки и имения — дело справедливое и богоугодное, что привести в действие разрушительную силу — дело, достойное разумного человека. Я понял, что славяне — наиболее способные, неиспорченные люди, но к демократии, к республике равнодушны, как к вещам нестоящим.
С 4 по 9 мая 1849 года Бакунин — полный диктатор Дрездена. В артиллерийском азарте он громит самые художественные здания, устроивает в театре склад горючих боеприпасов и сжигает его, огонь и разрушения пронеслись по всем улицам старинного города. Для защиты городских стен от солдат короля он приказал вынести из Дрезденской галереи и выставить в качестве щитов бесценные картины Рафаэля, Тициана, Рубенса, рассчитывая, что противник не посмеет стрелять в шедевры. (Во всяком случае, он со смехом рассказывал об этом на склоне лет!)
Когда же войска начали теснить повстанцев, он в боевом порыве предложил своим друзьям взорвать себя вместе с ратушей. Те вежливо отклонили великую честь. Тогда Бакунин организовал на удивление правильное отступление, вывел людей из-под огня, скрылся сам, и лишь предательство приютивших на ночь хозяев километрах в пяти от Дрездена позволило преследованию схватить его.
При виде жандармов Мишель дрогнул, представив, что будет немедленно выдан России. Это страшило его больше всего.
— Я готов к смерти, но не к выдаче.
Ответ, что его повезут в тюрьму Кенигштейн, удовлетворил его полностью.
В Петербурге известие это было встречено с воодушевлением. Не меньшее удовольствие доставил царю тот факт, что именно его офицер столь удачно действовал против прусского короля.
— Командовал? И как?
— Блестяще, Ваше Величество.
— В политике только успех решает, что есть великое дело, а что преступление, — размышлял Михаил в обществе конвойного офицера по пути в прусскую тюрьму Кенигштейн.
Впервые за много лет здесь у него теплая комната, еда, книги. Поначалу он даже доволен.
— У меня очень уютная чистая комната, много света, я вижу в окно кусок неба. Встаю в семь, пью кофе, затем математика, в двенадцать часов еда, потом на кровати — Шиллер, в два часа прогулка с цепью. До шести — английский, в шесть часов чай, и до половины десятого. Башенные часы бьют каждые четверть часа, а в двадцать один-тридцать звучит труба, гасить свет. Я спокоен и готов ко всему.
Допросы и кандалы, надеваемые на прогулку, может, и не беспокоят неприхотливого арестанта, но одиночество все же подтачивает его подвижный, вечно мятущийся дух.
— В этой жизни надо как-то выносить себя самого, — пишет он Руге. — Заключение мое столь сухо, что я должен хоть немного украсить его присутствием Граций. Кто сейчас один из лучших немецких сочинителей? Виланд? Пришлите Виланда, и еще географию, статистику, в особенности Германии, Австрии, Италии и Турции с картою, — и по обыкновению добавляет, — денег, друзья мои, денег!
На табак, стало быть, и на чай-кофе.
Чиновников Прусского правительства интересует роль Бакунина в восстании.
— Я не был ни зачинщиком, ни предводителем сей революции, даже не знаю, имела ли таковых эта революция.
Когда же следствие выложило на стол его письма и конверты, найденные в сундучке с бумагами, которые отобрали у арестованного, Бакунин напрочь «запамятовал» все адреса, имена и темы переписки, начинал говорить о пустяках, едва упоминались настоящие фамилии. Почти год длилось судебное разбирательство. Наконец, 17 марта 1850 года обвинение огласило ему смертный приговор.
По совету адвокатов, Михаил Бакунин написал прошение о помиловании. Смертную казнь через повешение заменили пожизненным заключением по второй категории.
Александр Герцен публикует благородно-печальные строки о великом революционере, скрывшемся за толстыми стенами казематов.
После прусского в свою очередь австрийское правительство желает пообщаться с Бакуниным. Австрийская полиция рассчитывала подузнать от него о славянских замыслах. Бакунина посадили в Грачин и, ничего не добившись о подробностях готовившегося пражского восстания, отослали в Ольмюц. Скованного, его везли под сильным конвоем драгун; офицер, который сел с ним в повозку, зарядил при нем пистолет.
— Это для чего же? — удивился Бакунин. — Неужели вы думаете, что я могу бежать при этих условиях?
— В вас я уверен, но друзья ваши могут сделать попытку отбить вас; правительство имеет насчет этого слухи, и в таком случае…
— Что же?
— Мне приказано всадить вам пулю в лоб.
И товарищи поскакали.
В крепости Ольмюц его поместили в темном сыром каземате, на охапке соломы, а во избежании побега приковали к стене, словно медведя. И вообще обращались неблагородно. Поначалу Мишель храбрится, распевает о Прометее с его скалой, которому двуглавый орел клюет печень, поет увертюру к вагнеровскому «Тангейзеру», но временами скисает, думает о самоубийстве, глотает спички, пытаясь отравиться, но не наносит ни малейшего вреда своему могучему организму.
Суд назначен на весну. Бакунин напрочь отрицал свое участие, утаивал сообщников. Впрочем, кое-какие свидетели нашлись.
— Ах, если бы у меня не было подагры! — восклицал одни из них, нарушая строгую атмосферу в зале суда. — Ах, господа судьи, если бы у меня не было подагры!
Но это ничего не меняло. Слишком громко призывал Бакунин в «Воззвании к славянам» к полному разрушению Австрийской империи и слишком полно живописал способы революционных действий, ведущих к желанной цели. Австрийская Корона могла пропустить это мимо ушей. Поэтому еще в марте, задолго до окончания следствия, граф Нессельроде, со слов австрийского министра-президента, сообщил графу Орлову о том, что Бакунин, по всей вероятности, будет приговорен уголовным судом к смертной казни в конце нынешнего марта месяца. Так и вышло. В течение одного дня обвинительный акт, показания подсудимого, подписание протокола суда и вынесение смертного приговора были проведены с военно-полевой скоростью, что говорило о том, что все разбирательство было заранее решенной комедией.
И точно также, по прошению о помиловании, смертная казнь была заменена на пожизненное заключение в работном доме.
Фемида сработала.
А что же Михаил Александрович? Каков-то он теперь, после двух лет тюремного заключения, двух смертных приговоров и всего, что открылось ему, сокрытому в заточении? По прежнему ли боится быть выданным Царскому Правительству? Да, поначалу действие батогов и плетей, хождение сквозь палочный строй под бой барабанов представлялось его воображению весьма живо, но время шло, и он уже не знал, что страшнее, и не боялся ничего.