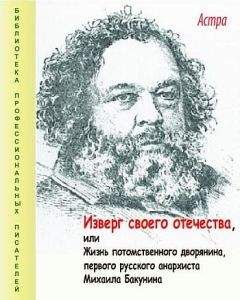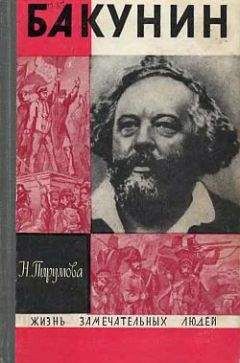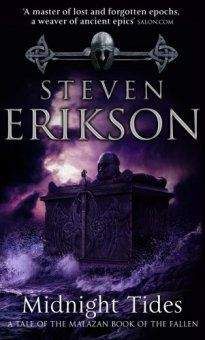— Прощайте. Это ваша единственная возможность оправдать себя в глазах Его Величества. Мой совет: точнее выбирайте слова.
Лязг и дробот повторились в обратном порядке и все стихло. Мишель прошелся по «арестантскому покою». Семь шагов туда, семь обратно, раскинув руки и качнувшись, достаешь руками от стенки до стенки. Поначалу, еще в Кенигштейне, острее всего угнетала невозможность своевольного передвижения, входа, выхода, бега по лестницам, ходьбы по улицам большими скорыми шагами, таких простейших свобод на воле и столь бесценных в заключении, потом цепь и солома уложили его в Ольмюце, словно быка на подстилку но и здесь, в Петропавловской, лежание на койке мало-помалу, исподволь отменило физические нагрузки на прекрасное здоровое тело, и оно стало грузнеть, оплывать, подавать сигналы внутренних бедствий.
Но теперь не до того! Его слова будет читать сам Романов, Император Всея Руси, человек, получивший все ругательные, возмутительные, злонамеренные статьи, писанные Бакуниным и произнесенные в запальчивых речах, желает выслушать его, как духовный отец духовного сына! Михаил прошелся еще раз и стал ходить как маятник, от окна к двери. «Духовный сын духовному отцу..». Такого еще не бывало. Тогда почему бы не написать, не заговорить после немоты двухлетнего молчания? Не подать голос из подземелья? Кому оно нужно, его глухое геройство! Зато каков читатель!
— Итак, от меня ждут исповеди, а исповедником решил стать сам Николай I. — он хрустнул скрещенными пальцами. — Будь я перед jury, в открытом пространстве… о, там надобно было бы выдержать роль до конца. Но в четырех стенах, во власти медведя, можно без стыда смягчить формы, надеть искусную маску тонкой лжи и лукавства, кажущегося раскаяния и сплести с подлинной стихией души.
Он присел на постель, потом вскочил, вновь услышав дробот сапог и лязг замка. Солдат принес несколько тонких тетрадей в зеленых обложках, по двенадцать листов в полоску (как раньше!), чернильницу, гусиные и металлические, как в Европе, ручки с перьями. Ушел.
— Да, тут надобно большое искусство, высокий слог и тон. Расчет на безвыходность моего положения и на энергичный нрав Николая могут сыграть в мою пользу. Надобно никак не утаить громко-известных грехов, но и вывернуться до нутра будто-бы в полной искренности, одновременно, там и сям умалять, на радость венценосного читателя, достоинства всех его врагов в Европе, не преминуть указать пальцем на причины недовольства русского народа и пути их устранений, а тем временем то и дело призывать на свою голову гром и молнию, все наказания, как на государственного преступника, и убедить, склонить, умолить разрешение на ссылку в Сибирь.
— Начнем, пожалуй, — Мишель сосредоточился над первой строчкой. — Как говорил Станкевич: авось путь выйдет!
В течение двадцати дней он писал и вычеркивал, переставлял, менял события, выбрасывал лишнее, потом еще около полутора недель наводил глянец, и снова рвал, убирал «бешеные» выражения, но как не старался, не смог удержать язык, рассчитывая на понимание, будто встарь, в благословенные времена душевной распахнутости в диссертациях к друзьям и сестрам! Увлекся, забыл, кто его Читатель! Зачем писать о революционных желаниях, зачем советовать и пророчить? Зачем? Для убедительности. Пусть, пусть. Давным-давно, чуть не двадцать лет назад, заметил Белинский ему и, осторожненько, его сестрам, что в русском языке, в отличие от французского и немецкого, Мишель делает пропасть грамматических ошибок. Они и сейчас при нем, но тут Бакунин положился на переписчиков.
Наконец, рукопись, изящно выбеленная в четырех экземплярах придворными писарями, переплетенная в четыре тетради, оказалась у князя-канцлера Горчакова. Прочитав ее, он качнул головой и признался самому себе.
— Жаль этого человека. Не думаю, чтобы в русской армии нашелся хоть один русский офицер, который мог бы сравниться с ним в познаниях. Жаль, очень жаль.
А между тем, экземпляры уже гуляли по осторожным рукам. К Алексею Бакунину пришла записочка от придворной кузины с полупрозрачным изложением «Исповеди».
— … Твой прежний знакомый, брат Дьяковой, живет здесь на самом берегу Невы и пишет теперь свои записки, разумеется, не для печати, а для Государя. Он весьма умно поправляет свои дела, увертлив, как змейка; из самых трудных обстоятельств выпутывается где насмешками над немцами, где чистосердечным раскаянием, где восторженными похвалами. Нечего сказать, умен!
И вот «Исповедь» легла на стол Императора Николая I.
Он работал с нею по утрам, по несколько страниц в день, и тонким карандашом отмечал на полях и подчеркивал в тексте поразившие его места. Места эти были расчетливо поставлены автором, как если бы они оба, Николай I и Михаил Бакунин оказались бы в одном кабинете за долгой беседой. Даже там, где Бакунин «увлекался», он лишь открывал себя для «укола», льстя противнику и отводя подозрения в неискренности. Но сам-то Николай искал у него откровенного мнения о революционном опыте в Европе, о состоянии революционного движения. Потому-то и не понял Бакунин, переиграл, безнадежно переиграл лишь самого себя, признаваясь в разрушительном революционном желании.
Ваше Императорское Величество!
Всемилостивейший государь!
Когда меня везли из Австрии в Россию, зная строгость русских законов, зная Вашу необоримую ненависть ко всему, что только похоже на непослушание, не говоря уже о явном бунте противу воли Вашего Императорского Величества, — зная также всю тяжесть моих преступлений, которые не имел ни надежды, ни даже намерения утаить или умалить перед судом, — я сказал себе, что мне остается только одно: терпеть до конца, и просить у Бога силы для того, чтобы выпить достойно и без подлой слабости горькую чашу, мною же самим уготованную. — Я знал, что лишенный дворянства тому назад несколько лет приговором Правительственного Сената и Указом Вашего Императорского Величества, я мог быть законно подвергнут телесному наказанию, и, ожидая худшего, надеялся только на одну смерть, как на скорую избавительницу от всех мук и от всех испытаний.
Не могу выразить, Государь, как я был поражен, глубоко тронут благородством, человеческим снисходительным обхождением, встретившем меня при самом моем въезде на русскую границу! Я ожидал другой встречи. Что я увидел, что услышал, все, что испытал в продолжение целой дороги, от Царства Польского до Петропавловской крепости, было так противно моим боязненным ожиданиям, стояли в таком противуречии со всем тем, что я сам по слухам, и думал, и говорил, и писал о жестокости Русского Правительства, что я в первый раз усумнился в истине прежних понятий, спросил себя с изумлением: не клеветал ли я?