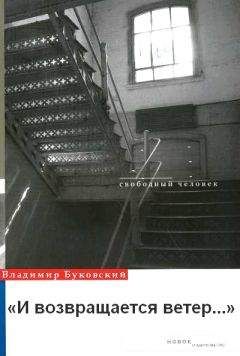Мы же еще больше облегчали задачу врачам, сами того не понимая, потому что вели самую веселую жизнь в своем политическом изоляторе в четвертом отделении Института Сербского. После стольких месяцев камерной жизни и полной лефортовской изоляции видеть сразу столько единомышленников, привезенных со всех концов страны, обмениваться новостями, анекдотами и шутками было просто праздником. Каждый рассказывал о своем деле, о друзьях, о планах, и многим даже в голову не приходило, что старухи санитарки все это мотают на ус и докладывают врачам. Я, помнится, забавы ради пересказал ребятам книжку о хиромантии, которую прочел перед арестом, и только потом узнал, что это тоже оказалось симптомом моей болезни. Затем один из ребят, Серега Климов, объявил голодовку по каким-то своим причинам. Его не изолировали несколько дней, и он продолжал лежать в той же камере, где мы все ели за столом. Наконец мы возмутились и тоже объявили голодовку полным составом, потребовали его изолировать, чтобы он не мучился, глядя, как мы едим. И эта наша голодовка тоже оказалась симптомом болезни.
Впрочем, мы нисколько не боялись оказаться психами — напротив, были этому рады: пусть эти дураки считают нас психами — вернее, наоборот, пусть эти психи считают нас дураками. Мы вспоминали все книги о сумасшедших: Чехова, Гоголя, Акутагаву и, конечно же, «Бравого солдата Швейка». От души хохотали над врачами и над самими собой.
Только один из нас — Аркадий Синг — воспринял все это трагически. Он был индус по происхождению, но с детства жил в СССР, в Свердловске. Работал инженером. Лет двадцать не мог он получить квартиру и ютился с женой где-то в подвале. Наконец, совершенно потеряв терпение и надежду, он сделал плакат «антисоветского содержания» и с ним пошел к обкому партии. Вокруг него собралась большая толпа: кто сочувствовал, кто просто любопытствовал узнать, что выйдет. Толпа росла, и получилось уже что-то вроде демонстрации. Власти заволновались, вежливо пригласили Аркадия войти в обком, дружески побеседовали, обещали дать квартиру, а затем вывели через черный ход, посадили в машину — якобы чтоб не возбуждать толпу — и отвезли прямо в тюрьму КГБ.
И этот вот Синг, когда узнал, что его признали сумасшедшим, чуть действительно с ума не сошел. «Как же так? — рассуждал он. — Меня же смотрели врачи-специалисты. Они лучше знают. И если они установили, что я сумасшедший, значит, так оно и есть. Я просто сам этого заметить не могу». Он постоянно спрашивал нас, не замечаем ли мы за ним каких-нибудь странностей, надоедливо рассказывал, какие он обнаружил у себя симптомы, и так нервничал, что по всему телу у него пошла экзема.
Любопытно, что в это же время было на экспертизе несколько человек по хозяйственным делам и хищениям, но ни один из них больным признан не был.
К осени всю нашу веселую компанию политпсихов отвезли в Лефортово, и тут выяснилось первое неприятное обстоятельство: на суд никого из нас пускать не собирались, всех судили заочно. Рухнули мои надежды увидеть своих судей, высказать им все, что накипело. Оправдываться я не собирался — я собирался обвинять. И готовился сделать так, чтобы этот суд им дорого обошелся. Теперь же получилось, что они опять безнаказанно расправились со мной, и это бессилие было хуже всего.
Хотя формально, по закону, суд должен был проходить в полном объеме: с допросами свидетелей и рассмотрением доказательств, — фактически процедура занимала не больше часа. Зачитали обвинение, затем заключение экспертов и вынесли постановление о направлении на принудительное лечение бессрочно. Узнал я об этом только от матери, когда пустили ее на свидание в сентябре. Свидание было коротенькое, всего час, и то в присутствии надзирателя, все время прерывавшего разговор. Происходило оно в комнате, разделенной широким столом. С одной стороны стола — я, с другой — мать. Передавать что-нибудь или даже прикасаться друг к другу строго запрещалось. Мать была напугана всей этой обстановкой и еле-еле осмеливалась говорить. С трудом я успокоил ее как мог. Сам же буквально корчился от бессильной злости.
Итак, официально я уже считался больным, не ответственным за свои поступки, однако никто не спешил отправлять меня в больницу — все мы продолжали сидеть в Лефортове. Говорили, что нет еще наряда в больницу, да и в больнице нет свободных мест. Лишь к концу года, в декабре, отправили нас — кого в Ленинград, кого в Казань. Тяжелая это вещь в тюрьме — расставанье с теми, с кем успел сдружиться. Как знать, увидимся ли еще…
В Ленинград прикатили к вечеру и сразу погнали в баню. Там санитары первым делом остригли нам волосы, причем не только на голове, но и под мышками, и на лобке. И все это одной и той же машинкой. У Сереги Климова отросли пышные усы — состригли и их. Он было сопротивляться: «Хоть машинку-то смените!» Куда там — мало ли какая блажь сумасшедшему в голову взбредет. Скрутили его, дали слегка под ребра: не дури! Видим, дело плохо. Санитары — уголовники, которых вместо лагеря прислали сюда в обслугу, срок отбывать. Злые, как собаки, благо есть на ком безнаказанно сорвать зло. Обрядили нас в обычную арестантскую робу, отобрали все вещи, развели по камерам. Полагалось здесь всех вновь прибывающих помещать сначала в первый корпус, в наблюдательное отделение.
Когда-то, года до сорок восьмого, была здесь просто тюрьма. Корпуса старые, камеры сырые, холодные. Держат в камерах по трое. Обычные камеры, как в Лефортове, с глазком и кормушкой, на окне решетка. Только туалета нет, и даже парашу не дают: не полагается психам иметь под руками тяжелых предметов. Чтобы оправиться, нужно стучать в дверь — просить надзирателя вывести в общий туалет в конце коридора. Ему же некогда, да и лень.
— Чего стучишь? — орет издали.
— В туалет!
— Подождешь!
Какое там «подождешь». Стучишь опять.
— Ты у меня сейчас достучишься! Все ребра переломаю.
— Да в туалет бы надо, начальник. Невтерпеж!
— Ссы на пол! — И так целый день. А слишком надоешь ему, науськает санитаров, и рад не будешь, что просился.
В камере, куда я попал, сидело еще двое. Утром один из них, только глаза продрал, начал выкрикивать лозунги: «Довольно большевистского рабству! Треба хлопцам воли и амнистию! Треба вильну незалежну самостийну Украинську державу организоваты! Треба хлопцам жупаны, шальвары, саблюки!» Целый день кричал, не затихая, до самого отбоя. Узнал я потом, что он просидел за украинский «буржуазный национализм» семнадцать лет во Владимирской тюрьме и сошел с ума. Били его каждый день немилосердно — надоедало надзирателям слушать его крики. Дверь отопрут, и человек шесть санитаров, точно псы, кидаются. Я было первый день полез заступаться, но получил такую затрещину по уху, что улетел под кровать — еле выполз потом. Помочь я ему ничем не мог, но и молча смотреть, как его избивают, был не в состоянии.