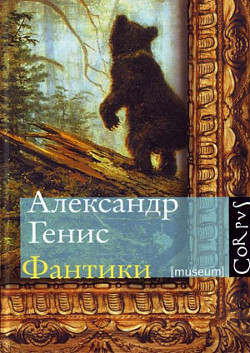выполнял отвлекающую функцию, отводя подозрения Запада от сверхсекретных военных заводов, спрятанных под обычными, но очень непростыми буднями. Замаскировавшиеся герои невидимого фронта, обманывая врага, пьют до работы, после работы, а главное – вместо работы. К концу книги у читателя закрадывается подозрение, что секретный завод – липа и его нет вовсе. Но такое развитие темы должно было дождаться Пелевина.
Больше всего мне нравится в “Маскировке” сам замысел – исходное условие существования той описываемой реальности, что так смешна и так знакома. Вот абзац, который объясняет устройство “Маскировки”: “Мы тут наверху боремся за то, чтобы наш город Старопорохов выглядел самым грязным, самым аморальным и самым лживым городом нашей страны. Маскируемся, одним словом, а под нами делают водородные бомбы, и товарищ иностранец, разумеется, ни о чем не догадывается”.
Живой Юз походил на своего авторского персонажа. Он очаровывал любого, но особенно дам. Быстро сойдясь на уважении к материальному низу, мы с ним затевали пиршества гаргантюанских масштабов. Однажды купили на ночном рыбном рынке Фултон-маркет омара размером со стол, в другой раз – приготовили шашлык из целого барана. Несмотря на культивируемый Юзом образ бывалого (что-то из Горького и Гиляровского), он иногда осекался и заводил ученую беседу, например об особенностях римской истории Тацита. Помнится, что тогда его любимой книгой был гигантский роман Музиля “Человек без свойств”.
23 сентября
Ко дню рождения Кублай-хана
Двадцать первый век. На императорском троне сидит внук Чингиза Кублай-хан. Это с ним познакомился Марко Поло. О нем написал Кольридж. По картинкам его знают многие: плоское бесстрастное лицо, непроницаемые глаза, грозный, но невозмутимый человек-гора – прообраз и идеал безраздельной власти.
Кублай-хан уже не похож на своих диких прадедов: он умел говорить (но не писать) по-китайски и полюбил роскошь. Особенно – пышные постройки, хотя сам еще предпочитал спать в шатре, раскинутом в дворцовом саду. Кублай-хан окружил себя блеском и сиянием, и от придворных он требовал того же. На торжественные церемонии они являлись в халатах, сплошь расшитых золотом. Будучи кочевниками, монголы всем искусствам предпочитали текстильное как легко поддающееся перевозке. Другим соблазном юаньской эпохи стал театр. Бурное и яркое, как на Бродвее, зрелище, позже ставшее Пекинской оперой, развлекало и поучало варваров. Остальным монголы не интересовались и, проявляя терпимость, позволяли каждому молиться своим богам, включая христианского.
Образованному сословию от этого было не легче. В Китае, где идеалом красоты служил не мужественный воин, а студент с мягкой, женоподобной внешностью, образование открывало все двери. Оно вело к власти, богатству и утонченным наслаждениям духа. При монголах образование стало ненужным, знания – бесполезными, положение – шатким.
Так при Кублай-хане лучшие умы Китая впервые разминулись с политикой. Без них она оказалась ареной голых амбиций, уже напрочь лишенных нравственного содержания. С тех пор как государственное поприще, к которому традиция готовила каждого образованного китайца, стало практически недоступным, морально недопустимым, а то и преступным, духовная элита замкнулась в себе и превратилась в интеллигенцию.
Оставшиеся не у дел должны были найти себе занятие и оправдание. “Литерати”, так можно назвать эту касту, отличала беспримесная порода. Аристократы духа, они считали своим долгом сохранить и передать умение наслаждаться лишь высоким, только невыразимым и бесконечно прекрасным. В себе “литерати” хранили даже не цветы традиции, а ее пыльцу. Почти неощутимая духовная субстанция, без которой мир был бы пошлым, жизнь – грубой, искусство – развлечением.
24 сентября
Ко дню рождения Фрэнсиса Скотта Фицджеральда
Не тема, не сюжет, не герои, а особое обращение со словесной материей привело Фицджеральда к прорыву в ХХ столетие. Он писал так, что все видно. На Фицджеральда разительно повлиял кинематограф. Его книги полны скульптурных деталей, которые просятся на экран, ибо они выпирают со страницы и становятся трехмерными. Это делает такую прозу незабываемой и заразной. В нее втягиваешься, как в боевик, и она не обманывает ожиданий, как хороший триллер.
Зависимость от кино ярко проявляется в зачинах романов Фицджеральда. Каждый из них, как в фильмах Хичкока, – умная экспозиция, незаметно и выразительно рисующая обстановку и представляющая читателям-зрителям главных и эпизодических персонажей. При этом сам Фицджеральд в кино ничего не добился. Возможно, проза Фицджеральда слишком хороша для кино, она уже кино.
Вот и “Великий Гэтсби” никак не дается кинематографу. Беда в том, что экранизации не передают символическую глубину романа. В сущности, это поэма о нуворише, мечтавшем втереться в мир старых денег, как и неопытная, но разбогатевшая Америка, которая ищет себе места в снобистском Старом Свете. Не зря там никто не может найти счастья, как об этом пишет автор в романе “Ночь нежна”: “После завтрака на обеих вдруг напала тоска, которая часто одолевает американцев в тихих уголках Европы. Кажется, что сама жизнь остановилась и не идет дальше”.
В этом подспудном метасюжете Фицджеральда есть и автобиографическая нота. Характерно, что сперва Фицджеральд хотел назвать свой лучший роман нелепо: “Новый Трималхион”, давая этим понять, что он тоже читал Петрония, как взрослые и умные. Но “Гэтсби” – не для них, он про молодых и для молодых, поэтому роман не стареет. Вся книга – как почки, о которых упоминает рассказчик в начале романа: “Солнце с каждым днем пригревало сильней, почки распускались прямо на глазах, как в кино при замедленной съемке”.
25 сентября
Ко дню рождения Уильяма Фолкнера
Если в русской словесности нашу любовь делили Толстой и Достоевский, то в американской, которая тогда часто заменяла отечественную, соцреалистическую, шла борьба двух кумиров: Хемингуэя и Фолкнера.
Первый – мастер батального жанра – связывался с Толстым, второй тяготел к Достоевскому и почвенникам. Конечно, эти параллели слишком грубы. Хемингуэй, как и Толстой, казался нам, наивным читателям, попроще. А Фолкнер вел в глубину, был для посвященных, он трудно читался и служил (наравне с Кафкой, Джойса мы тогда не знали) проводником в западный модернизм.
Эта снобистская и смешная сейчас точка зрения была вполне универсальной.
Довлатов, который, конечно же, стилистически был куда ближе Хемингуэю (и Сэлинджеру), обожал все-таки именно Фолкнера и часто его цитировал. Бродский, полностью игнорируя Хемингуэя, ввел Фолкнера в свою плеяду лучших прозаиков вместе с Прустом, Джойсом и Платоновым.
При всем том Хемингуэй оказал гигантское влияние на русскую литературу, а Фолкнер, в сущности, никакого. Больше всего тянет сравнить его с южанином Искандером, которому я даже успел сказать об этом, чем ему польстил, но и удивил. Пожалуй, это действительно лишь внешнее сходство: у обоих была своя выдуманная страна, этим все и ограничивается.
Самым важным было то, что, в отличие от космополита Хемингуэя, Фолкнер для нас был чисто американским автором с его ни на кого не похожими героями, “полными Библии и виски”. Ни того, ни другого мы в глаза не видели.
По-настоящему я открыл Фолкнера, когда, вооруженный томиками его прозы, сам добрался до американского Юга.