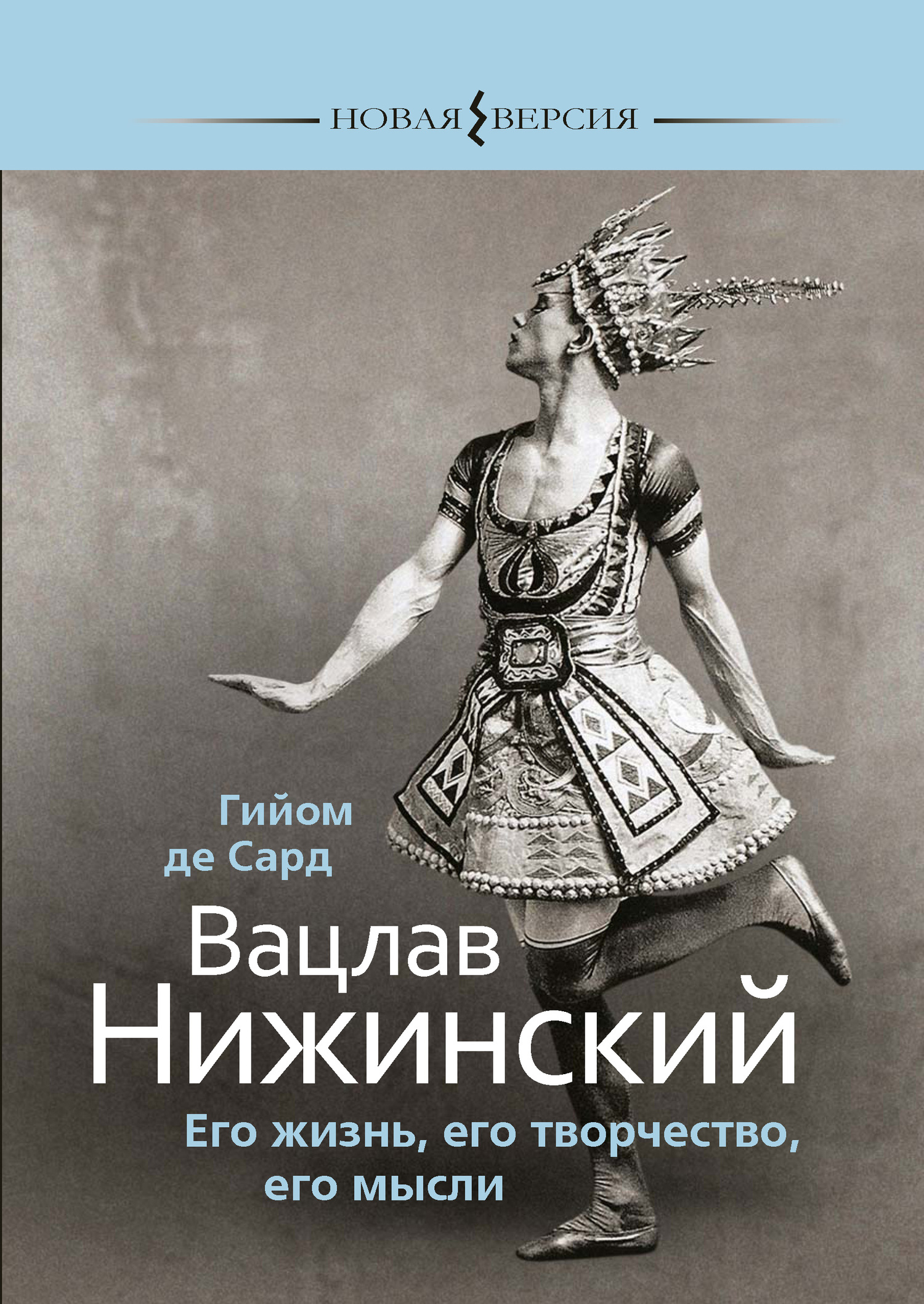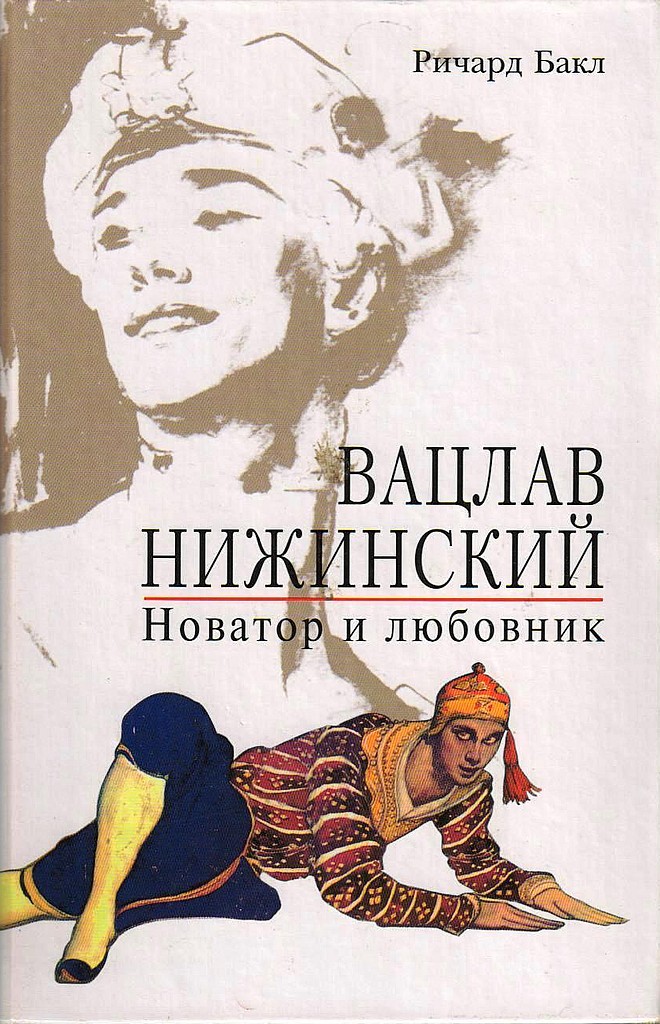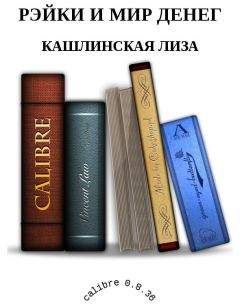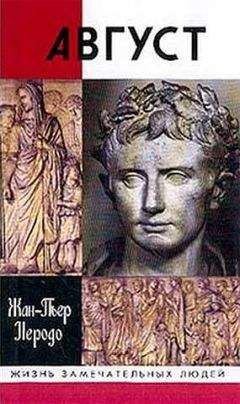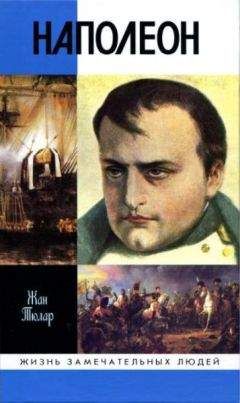дионисична. Эрнст Юнгер, как и Ницше, признавал это. «Не останется ничего изящного, – писал бывший офицер вермахта, – все будет перемолото и раскромсано, все, что хрупко, будет раздавлено». Война «жестока и груба». Она сметает все на своем пути, попирая все человеческие законы. Она пробуждает «первобытного человека» и вызывает «красное опьянение кровью». [268] «Полностью отдавшись разнузданным страстям и низким инстинктам», человек становится подобен охваченным ниспосланным им Дионисом «безумием» вакханкам, которые разрывают плоть людей и животных, попадающихся им на пути, и пожирают ее.
Изображая в танце войну, Нижинский всем существом переживал самые глубокие чувства: покров, скрывавший чудовищное лицо мира, в одно мгновение был сорван.
Я почувствовал ужас, писал танцовщик. Я искал любовь, но понял, что нет любви. Что все это грязь. (…) Я понимаю цель людей без слов. Я чувствую отвращение. (…) Люди убивают детей и покрывают землю пеплом. (…) Я понял, что весь организм человека перерождается. (…) Я знаю, что земля перерождается, и я понял, что люди помогают ей перерождаться. Я заметил, что земля потухает и что с нею вся жизнь потухает.
Нижинский не мог этого выносить. Такие переживания истощали его, вызывая упадок сил, которому он не мог противостоять:
Я болен душою. Я беден. Я жалок. Я несчастен. Я ужасен. (…) Я плачу. Я холоден. Я не чувствую. Я умираю. Я не Бог. Я зверь…
И тогда он затворился в себе навсегда:
Я заперся внутри себя. Я заперся так крепко, что не мог понять людей. Я плакал и плакал…
Касающиеся безумия Нижинского рассуждения, которые я собираюсь сейчас изложить, в основном опираются на философию Ницше. Эти соображения, безусловно, нечто внешнее по отношению к танцовщику, что является их сильной и слабой стороной одновременно. Меня натолкнуло на эти мысли очевидное сходство судеб философа и танцовщика. Но если изменить точку зрения, если воспринимать Нижинского совершенно всерьез, то напрашивается другое объяснение его состояния, и оно не внешнее, не мирское, как первое, но внутреннее, основанное на религиозном чувстве. Не следует забывать, что танцовщик все время настаивал на истинности того, что он писал:
Я знаю, что все будут думать, будто все, что я пишу, выдумано, но я должен сказать, что все, что я пишу, это истинная правда. (…) Я написал правду. Я сказал правду. (…) Я не притворяюсь. Я пишу правду, потому что хочу, чтобы все знали. Я знаю, что все скажут, что Нижинский сошел с ума…
Я все могу – так говорит художник. На сцене, только посредством смены поз, мимики, жестов Нижинский мог изобразить молодого человека и старика, аристократа и простолюдина, человека и животное. Он становился демиургом. В обычном зале, без театрального костюма, а то и просто в репетиционном трико, как в бальном зале отеля «Сювретта-Хаус», он мог сотворить целый мир. Не удивительно, что, обладая необыкновенной чувствительностью и непосредственностью восприятия, Нижинский часто идентифицировал себя с этим эфемерным миром, сотворенным им самим посредством танца:
Я – весь земной шар. Я – земля. (…) Я бесконеченость. Я все сущее. Я буду всегда и везде.
И все-таки в бесконечном разнообразии образов человеческое привлекало его больше всего. Все человеческие проявления переплавлялись в тигле его искусства и безумия:
Я – человек в миллионе. Я не один. Я есть миллион, потому что я чувствую больше, чем миллион.
«Болезнь души»… Можно и так назвать такую способность к бесконечному сопереживанию. Нижинский переживал всякое страдание, а он видел и чувствовал страдания повсюду:
Я понял, что вся жизнь (…) всего человечества есть смерть. Я пришел в ужас…
Но даже если он и хотел разделить эти переживания с другими («Она [Тэсса] чувствует много вещей, но не понимает их смысла. Я боюсь ей сказать, поскольку знаю, что она испугается»), ужас и страх невозможно было излечить. Они становились тем сильнее, чем больше Нижинский тосковал по временам, когда в мире без войны и зла царили единение и всеобщая любовь:
Я знаю, что Бог не хочет войн.(…) Я – мир, а не война. Я хочу мира всем.
Он мечтал о благотворительности:
Я бы отдал эти деньги бедным. (…) Я не даю ради благодарностей. Я даю, потому что я люблю Бога.
Он требовал любви:
Я хочу любви на всем земном шаре.
В нем скрывался ищущий бога «мужик», его вдохновлял поздний Толстой, евангелист и патерналист, стоящий на перекрестке путей, по которым в начале века шли идеи гуманизма, весь в слезах и откровенно теряющий рассудок. Очень трезво (для безумного) Нижинский анализировал именно то, что было в нем самым неразумным:
Я безумец, который любит людей. Мое безумие – это любовь к людям.
Он страдал от жалости и в то же время превращал банальные проявления болезни в акт братской любви к человечеству. Словно во вселенском объятии, он протягивал руки к каждому, кто испытывал страдания, призывая ко всеобщему искуплению грехов. Дело больше не шло о мудрости крестьянской избы, об опыте стариков, его мысль сближалась с тем, что происходило на другом конце света, где пророчествовал Уолт Уитмен (его произведения хотел переводить Лафорг в 1887 году; потом этим занимался Андре Жид; в 1918 году предисловие к изданию его французских переводов написал Валери Ларбо):
О теле электрическом я пою;
Легионы любимых меня обнимают, и я обнимаю их;
Они не отпустят меня, пока не уйду я с ними, им не отвечу,
Пока не очищу их, не заполню их полнотою души. [269]
Если переживания Нижинского, заставляющие его обратиться к области духовного опыта, не поддающегося правилам и ограничениям религиозных институтов, и могут быть подведены под определение «мистических», что тоже было бы несколько поверхностно, то ничто не оправдывает стремления искать основания для утверждений о его гипотетических сверхъестественных способностях. Просто каждодневный труд вел Нижинского по пути изменений, в конце которого он встретился с Богом и даже стал отождествлять себя с Богом. Понятия «труд», «работа» для него были особенно важными: «Я работаю больше всех». Он говорил о «работе над собой», имея в виду свои упражнения и совершенствование техники. Для него это было больше