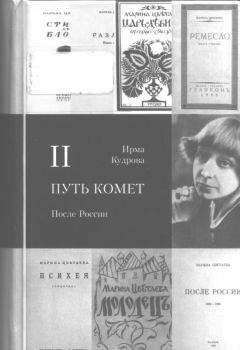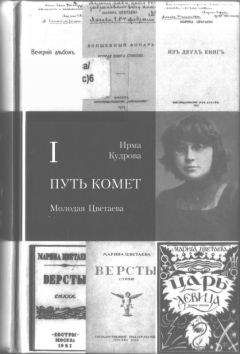В конце вечера Прокофьев заявил, что хочет написать не один, а несколько романсов на стихи М. И., и спросил, что она хотела бы положить на музыку. Она прочла свою “Молвь”, и Прокофьеву особенно понравились первые две строфы:
Емче органа и звонче бубна
Молвь — и одна для всех:
Ох — когда трудно, и ах — когда чудно,
А не дается — эх!
Ах с Эмпиреев и ох вдоль пахот,
И повинись, поэт,
Что ничего, кроме этих ахов,
Охов, у Музы нет.
“А воображение? — спросил Прокофьев. — Разве не это самое главное у Музы?” Тут завязался спор. М. И. утверждала, что не одна поэзия, но вся жизнь человеческая движется воображением. Колумб воображал, что между ним и Индией — вода, океан, — говорила она, — и открыл Америку. Ученые, не видя, находят звезды и микробы, тот, кто вообразил полет человека, был предтечей авиации. И нет любви без воображения.
— Что же, по-вашему, — опять спросил Прокофьев, — это озарение?
— Нет, это способность представлять себе и другим выдуманное как сущее и незримое как видимое.
Прокофьев потом признался, что был согласен с Цветаевой, но нарочно вызывал ее на беседу…
Всю обратную дорогу Прокофьев был возбужден, восхищался напряжением и силой цветаевского мировосприятия, а затем с азартом стал обсуждать, какие стихи Цветаевой лучше положить на музыку».
Так пишет Марк Слоним в опубликованных мемуарах.
Но в личной беседе с Вероникой Лосской, вспоминая эту встречу, он добавил штрих, разрушающий идиллическую тональность: оказывается, Сергей Яковлевич в какой-то момент сел в тот вечер на своего любимого конька и чуть было не испортил всю обедню. Он «разглагольствовал о России, и Прокофьев взъелся. Он был так сердит, что на обратном пути вместе с машиной врезался в столб на бульваре».
Только чудом машина не перевернулась и все остались живы.
К середине сентября не пришло чешское пособие, которое обычно поступало в самом начале месяца.
В доме воцарилась мрачная безнадежность. 15 октября надо было отдать квартирным хозяевам сразу 1200 франков. Кроме того, предстояло платить и за школу рисования, где училась Ариадна. А в семейном кошельке оставались считанные франки.
Цветаева — Тесковой, 14 сентября 1931 года: «Наше положение прямо отчаянное: 14-ое число, а чешского иждивения нет. Без него мы погибли. <…> По нашим средствам мы все должны были бы жить под мостом. <…> Умоляю, дорогая Анна Антоновна, попытайтесь отстоять меня у чехов. — Совестно всегда просить, но виновата не я, а век, который десять Пушкиных бы отдал за еще одну машину…»
Эфрон — сестре, 18 сентября 1931 года: «Ты спрашиваешь, как мои дела. Должен сознаться, что хуже нельзя. Кризис (ужаснейший и со дня на день растущий) и мои советские взгляды сделали то, что я вот уже год не могу найти заработка. Что будет дальше — думать страшно. Живем изо дня в день, каким-то образом выворачиваемся. Но боюсь, что и выворачиванию придет конец. Эта зима в Париже будет сверхтрудной…»
Осенью сорвалась еще одна попытка устроить французского «Молодца» через давнего, российских лет, приятеля — француза Шюзвиля. Надежда вспыхнула — и погасла: очередная неудача.
Как бы ни была Цветаева уверена в своем даре, эта цепь отказов из всех редакций, это вежливое равнодушие и молчание, этот снисходительный тон Георгия Адамовича, упоминавшего всякий раз в своих литературных обзорах о «болезнях ее вкуса», — не могли поднять жизненный тонус.
Одно к одному, одно к одному…
Но что появляется в цветаевских рабочих тетрадях в те самые дни, когда она пишет свое отчаянное письмо Тесковой?
— Ненужен твой стих —
Как бабушкин сон.
— А мы для иных
Сновидим времен.
— Докучен твой стих —
Как дедушкин вздох.
А мы для иных
Дозорим эпох.
И еще:
— На смарку твой стих!
На стройку твой лес
Столетний!
— Не верь, сын!
И вместо земных
Насильных небес —
Небесных земель —
Синь.
Ни жалобы, ни отчаяния, ни обвинений. Спокойная уверенность: «Моим стихам настанет свой черед». Но есть строки в записной книжке и более горькие: «Ведь все равно, когда я умру — все будет напечатано! Каждая строчечка, как Аля говорит: каждая хвисточка! Так чего ж ломаетесь, привередничаете? Или вам вместо простой славы… непременно нужна… сенсация смерти? Вместо меня у стола непременно — я на столе?..»
В последний момент приходят и чешское «иждивение» (правда, урезанное), и деньги, собранные друзьями. Дамоклов меч выселения больше не висит над головой. Можно перевести дух.
И Марина Ивановна разом стряхивает напряжение. Внешние невзгоды никогда не затрагивают ее глубоко; в сердце она их не впускает. «Я вообще за “grands éfforts”[7] в жизни, — пишет она Тесковой 8 октября, — лучше сразу непомерное, чем понемножку…»
Жизнь продолжается. Цветаева погружена в очередную работу, и к ноябрю она уже закончена: это статья «Поэт и время».
«На свете счастья нет, но есть покой и воля…» Размышляя над этими пушкинскими строками в сентябрьском письме к Андрониковой, Цветаева вносит свою поправку в их смысл. «Воли-свободы» тоже нет, пишет она Саломее Николаевне, зато есть другое: «воля волевая».
Воля как усилие, как мощное желание и превозможение.
Она не дает счастья, но помогает жить и делать свое кровное дело. То, которое за тебя не может сделать никто другой.
1
Начало 1934 года во Франции было ознаменовано очередным министерским кризисом. На этот раз толчком для него послужило раскрытие крупной финансовой аферы, в которой были замешаны парламентские депутаты, министры и видные чины французской полиции. На страницах газет замелькали портреты Александра Ставиского, выходца из России, талантливого жулика, ворочавшего миллионами и пользовавшегося доверием высокопоставленных дипломатов.
Между тем русские эмигранты едва оправились от судебного процесса над другим своим соотечественником — Горгуловым, застрелившим в 1932 году французского президента Думера. В очередной раз они обостренно ощутили себя гостями, которые незванно явились в чужой дом и досаждают хозяевам скверными выходками. Правда, в отличие от Горгулова, Ставиский не был эмигрантом, но родился он все же в Киеве — и этого было достаточно, чтобы русские втянули голову в плечи, ловя на себе (как им, во всяком случае, казалось) косые взгляды французов.