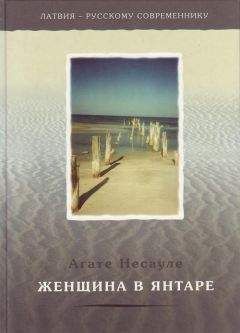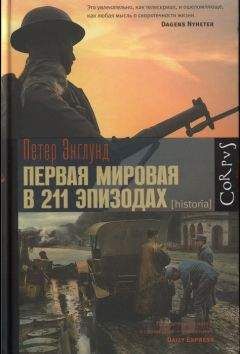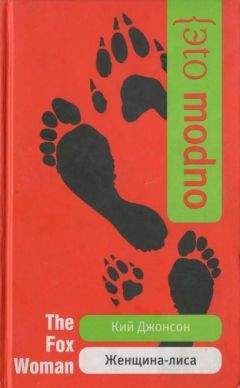Только Бет вмешалась некстати. Непонятно почему, мне вдруг стала звонить одноклассница.
— Как твои дела? Тебе лучше? Что ты читаешь? Не могу ли я тебе чем-нибудь помочь?
— Нет, — отвечаю я.
Бет я знаю плохо, с какой стати ей интересоваться мной? На уроках латинского языка мы сидели на одной парте, и это все, да еще однажды на уроке химии, когда ее соседка по парте не пришла в школу, мы обе быстро и успешно справились с лабораторной работой.
— Ты готова принять гостей? — не отступает Бет. — На следующей неделе я приду тебя проведать, или через неделю, как хочешь. Тебе ведь скучно, правда? Скажи, когда я могу прийти.
— Нет, пожалуйста, не надо. Пожалуйста, не беспокойся, я еще слишком больна, чтобы с кем-нибудь видеться.
Как-то ближе к вечеру, когда я только проснулась, Иева, моя латышская подружка, которая почти каждый день приходит меня проведать, тихонько постучалась в дверь.
— К тебе гость. Какая-то американская барышня выходит из маленькой красной блестящей машины. Она идет к дому, с букетом цветов.
— Нет! — как заору я. Окидываю комнату чужим оценивающим взглядом. Наши с Беатой кровати тесно сдвинуты, так что ночью мне приходится перелезать через сестру, наброшенная на картонные коробки вязаная скатерка вовсе не превращает их в комод, висящий на стене кусок зеркала в трещинах — для меня и для Иевы картина обычная. Но и это не все, постельное белье мятое и влажное — во сне я потею, в корзине для бумаг испачканные кровью бумажные салфетки, наволочка тоже в пятнах крови. Я стыжусь и этого дома, и своей болезни, да и не знаю я, что сказать Бет. О чем мы с ней будем разговаривать? У нас с ней нет ничего общего.
— Не пускай ее, — прошу я. — Скажи, что я так больна, что не могу с ней разговаривать.
— Но ведь неплохо повидаться с подружкой.
В дверь стучат.
— Нет, — испуганно прошу я, — она мне не подруга. Не впускай ее.
Я поворачиваюсь спиной и закрываю глаза.
— Пожалуйста, уйди, — произношу я умоляюще.
Иева возвращается, держа перед собой вазу с весенними цветами — желтыми нарциссами, кремовыми тюльпанами, темно-синими гиацинтами.
— Она просила тебе передать. Очень огорчилась, что не может с тобой увидеться.
— Ты впустила ее в дом? Она видела?
— Нет, я разговаривала с ней на пороге. Но какое это имеет значение? Она так старалась, надела нарядное платье, шляпу, белые перчатки, и цветы такие прелестные. Ведь это приятно, когда подруга хочет тебя порадовать. По-моему, ты ей очень нравишься.
Но я не верю, что могу нравиться Бет. Никому из нелатышей я не нравлюсь, никому не могу нравиться, куда уж Бет? Может быть, Бет пришла посмотреть, чтобы потом посплетничать.
Я поворачиваюсь лицом к стене. Мне жалко Бет, высокую, серьезную рыжеволосую девочку, которая несла букет цветов в своей веснушчатой руке, на нежном личике разочарование и стыд, что ее не впустили. Бет слишком умна, чтобы не понять, что ее радушие отвергнуто. Она больше никогда не позвонит, думаю я. И она не звонит.
Столько тайн приходится хранить. В Латышском доме на Центральной авеню обсуждают проблемы, не имеющие решения. Осталась бы Латвия независимой, если бы латыши объединились с литовцами и эстонцами и в 1944 году вместе выступили бы и против немцев, и против русских? Какие шаги нужно сейчас предпринять, чтобы обеспечить Латвии независимость в будущем? Кому в войну приходилось труднее — мужчинам или женщинам?
В один из теплых дней ранней осени я сижу с мамой в последнем ряду. В маленьком безвоздушном пространстве полно молодых мужчин, сражавшихся на фронте. Кое-кто побывал в плену. Они говорят об усталости, ранениях, смерти. Они называют число погибших и проценты, вспоминают товарищей, которые ослепли, лишились рук или ног. От гнева и боли их голоса становятся все громче.
Женщины молчат.
Наконец Регина, умная, решительная женщина, бывшая актриса, говорит:
— У мужчин, по крайней мере, были винтовки в руках. А что было у нас?
Она кивает на женщин и девочек в последнем ряду.
— У нас ничего не было.
Ее быстро заставляют замолчать. Пусть она назовет, сколько женщин погибло или было ранено. Нет. Бомбежки не считаются. Все знают, что на войне гибнут мужчины, не женщины. Где статистика? Где доказательства? Да как она посмела даже подумать так? Она преувеличивает.
Регина пытается ответить, потом вызывающе встряхивает головой, опускает ее и принимается рассматривать кольца на руках.
В неловкой тишине мама громко произносит:
— Женщины испытали нечто более ужасное, по-своему еще более страшное.
— Что может быть страшнее смерти и ран? — перебивает ее кто-то.
— Гораздо более страшное, — повторяет мама. Даже мне это кажется неубедительным. Слово «изнасилование» в смешанном обществе не произносится. Люди возмущены тем, что это слово недавно напечатано в новом скандальном романе. Я надеюсь, мама не произнесет это слово, я надеюсь, она не станет ни о чем рассказывать. Похоже, она принижает очевидные страдания мужчин. Она пытается лишить их чего-то? Зачем ей вообще надо было вмешиваться? Мне за нее стыдно, мне приходится защищать от нее мужчин.
Но хоть мне и хочется, чтобы мама молчала, во мне самой клокочет неукротимое желание говорить, кричать, дать им понять, что испытали женщины и девочки. От напряжения у меня перехватывает дыхание, в голове образы теснятся, наплывают, исчезают, кажется, голова сейчас лопнет.
Я не произношу ни слова, но еще и потому, что и меня заставят замолчать. Я стыжусь погреба; все бы стали меня презирать, если бы знали, что делали солдаты. И мама бы тоже оказалась среди отверженных обществом. Я никогда ничего никому не расскажу.
«Мужчинам приходилось труднее», — решено голосованием. Женщины и девочки поднимают руки, выражая согласие. Регина продолжает полировать свои кольца, но когда вопрос повторяют, она пожимает плечами и тоже поднимает руку, ясно давая понять, что ей все равно, какое решение будет принято.
Мама упрямо смотрит на свои сцепленные руки. Я отдала свой голос за победителей. Посмотрела на мамино пунцовое лицо и мне захотелось, чтобы она была другой. Мне вдруг страстно захотелось увидеть ее улыбающейся, увидеть, как она смотрит Сниегсу в глаза, берет из рук пастора Брауна цветок, смеется над веселой историей, которую рассказывает папа. Как ни страдала я от маминого отчуждения, я предпочитала ее прежнюю уступчивость мужчинам полному горечи сопротивлению.
Однако победа никого не радует. Мужчины все так же стоят, вид у них вызывающий, им неловко, женщины молча одна за другой покидают зал. Главный докладчик ворошит на столе бумаги и в раздражении отпихивает стул. По дороге домой мы с мамой не вспоминаем только что происходившее, я все еще ощущаю внутреннее напряжение.