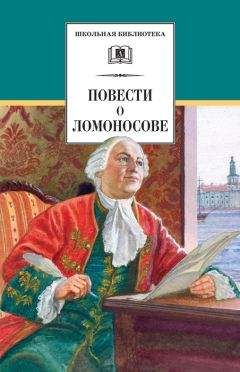Иван Иванович улыбнулся.
– Науки доказывают, что, согласно астрономическим умозрениям, планеты свое хождение имеют и, проходя между Землей и Солнцем, оное частично закрывают.
Елизавета Петровна с недоверием покачала головой:
– Сумнительно что-то! Почему же оная Венус до сих пор там не проходила? – Повернулась к Дубянскому: – А ты как, отец, думаешь: не может ли быть от сего светопреставления?
Дубянский погладил бороду.
– Конечно, все в руце Божией. И всякие земли трясения, и другие бедствия – засуха и наводнения, однако же в Священном Писании нигде о том не упоминается. Бог милостив, ваше величество…
Елизавета Петровна несколько успокоилась.
– Ну ладно, Бог Богом, а пущай Тайная канцелярия тоже смотрит, не будет ли от этого каких беспорядков и в городе воровства.
Она встала, подошла к окну, загляделась на Неву, на залитые вдали солнцем деревья, на зеленеющие сады…
– На натуру бы поехать, на траве поспать, в речке искупаться. Ты, Иваныч, вели-ка свежего сена мне в спальню принести и разбросать, чтобы пахло.
Обернулась ко всем, улыбнулась красивым ртом, сверкнула карими глазами.
– Как я хворать стала, теперь сама на кухне не готовлю. Думаю, пущай главный повар Фукс сам моих друзей угощает. Недаром он у меня бригадир* и восемьсот рублей жалованья получает. Так что, кто хочет завтракать, идите в столовую, а я немного прилягу… – И она кивком отпустила всех, кроме Разумовского.
Когда Александр Иванович Шувалов вышел из малой столовой, где для приличия отведал блюда, изготовленные великим кулинаром Фуксом, изумлявшим Петербург чудесами французской кухни, и пошел к выходу через анфиладу дворцовых покоев, все взоры обратились на него.
Длительные, хотя и редкие беседы начальника Тайной канцелярии с императрицей всегда приводили к неожиданным и иногда потрясавшим до основания всю столицу последствиям.
Хотя Тайная канцелярия занималась главным образом борьбой со шпионажем и происками иностранцев, в нее, однако, поступало любое дело, относившееся к государственной безопасности. По еще допетровской традиции, достаточно было сказать: «Слово и дело Государево!», чтобы и человек, сказавший эту фразу, и тот, на кого он доносил, попали в Тайную канцелярию. Методы допроса и наказания в ту эпоху отличались дикой жестокостью.
Когда Елизавета Петровна предложила Сенату издать указ о том, чтобы малолетние до 17 лет совсем были освобождены от пытки, Святейший синод восстал против этого, доказывая, что, по учению святых отцов, малолетство считается только до 12 лет.
Еще все помнили, как на эшафоте перед палачом стояла Головкина – жена брата бывшего канцлера Бестужева. Избитая кнутом палача, отрезавшего ей язык, она была снята с помоста, и ее отправили в далекую ссылку, в Якутск.
После нее место на эшафоте заняла первая красавица Петербурга – Лопухина. Она стала отчаянно отбиваться, ударила палача и вцепилась зубами в его руку. Он сдавил ей горло и заставил выпустить свою руку, а через минуту уже протягивал толпе кусок окровавленного мяса, крича: «Не нужен ли кому язык? Дешево продам!»
В ответ не раздалось ни одного возгласа: толпа молчала.
Лопухина потеряла сознание, ее бросили в сани, прикрыв рогожей, и отправили в Сибирь.
Обе женщины были обвинены в сношениях с австрийским посланником – маркизом де Ботта д’Адорно, который хотел организовать заговор в пользу Иоанна Антоновича.
Все знали, что Елизавета Петровна не утвердила ни одного из 3579 смертных приговоров, вынесенных в течение ее царствования преступникам из простого народа. Это, однако, нисколько не мешало ей считать вполне естественным, что помещики вправе распоряжаться своими крестьянами как угодно.
В 1760 году Сенат предоставил помещикам право без суда ссылать своих крепостных на поселение. Елизавета Петровна утвердила этот закон с тем же ленивым безразличием, с каким она относилась ко многим важнейшим законопроектам. Но в ней просыпалась отцовская ненависть к придворным, уличенным в предательстве и измене.
И теперь многие из придворных, попадавшихся навстречу Александру Ивановичу, с беспокойством вглядывались в его лицо.
Но лицо его ничего не выражало. Землисто-желтоватое, худое, с мутными серыми глазами, оно отражало только скуку и безразличие – чувства человека с плохим пищеварением и аппетитом, не имевшего никаких страстей.
Он вышел на подъезд, не обращая внимания на вытягивавшихся перед ним караульных офицеров. Подлетела карета, из нее выскочил офицер Тайной канцелярии. Александр Иванович что-то шепотом сказал ему, сел в карету. Дверцы захлопнулись, лошади понеслись…
Карета пронеслась на Мойку и остановилась перед домом Ломоносова.
Александр Иванович, в сером плаще и серой же треуголке, тихо открыл калитку и медленной походкой человека, который не производит шума и не оставляет следов, пошел по аллее в сад. Он дошел до большой беседки и остановился, немного наклонив голову набок и прислушиваясь.
В беседке он увидел Михаила Васильевича Ломоносова в халате, туфлях и колпаке с кисточкой. Десьянс академик ходил из угла в угол, иногда останавливаясь перед столом. На столе среди бумаг, книг и инструментов стояли остывший обед и миска с огурцами и квашеной капустой. Михаил Васильевич продолжал ходить, что-то бормоча про себя, чем-то весьма расстроенный.
Александр Иванович вышел из тени деревьев и появился на пороге беседки. Ломоносов взглянул на него, кивнул ему, как будто нисколько не удивившись его появлению, и, занятый своими мыслями, продолжал шагать, но вдруг вспомнил про начальника Тайной канцелярии и, указав ему жестом на стол, пробормотал:
– Не угодно ли пообедать со мной? Могу приказать подать шти горячие, еще есть говядина отварная с хреном, кисель…
Александр Иванович пожевал губами.
– Благодарствую – только что кушал на завтраке во дворце отменные французские блюда…
Первый академик вскинул на него глаза.
– Отменные?.. Не думаю! Что может быть здоровее и вкуснее простой русской пищи! А на завтраках этих больше шампанское пьют да трюфелями заедают. А отчего сие? От слепого преклонения перед всем иностранным. Другой дурак-недоросль еще вчера, кроме своей матери-помещицы, дьячка да сенных девок, ничего и не видел, грамоты азов не знает, а сегодня ходит во французских кружевах, шампанское пьет, устерсы и трюфеля жрет. А ведомо ли вам, сударь, что лучше нашей квашеной капусты и малосольных огурцов ничего нет, что Петр Великий хвойный настой и капусту за границу отправлял и продавал и оными голландские и английские моряки от цинги лечились? То же и в отношении одежды. Человеку надобно иметь одежду удобную, добротную, красивую. А молодежь дворянская более парижским петиметрам* подражать старается: обувь узкая, панталоны узкие, камзолы и кафтаны в обтяжку и самых ярких цветов. И ходит такой глупый фазан, думая, что его за иностранца примут, а каждому видно, что он чистый и бесполезный дурак… Неспроста сказано: «Когда платье в сундуке, дурак на руке».