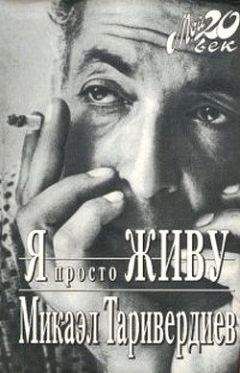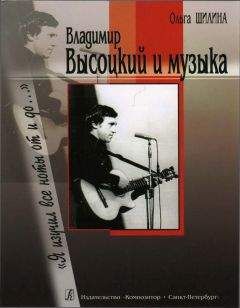Когда начались репетиции, я, конечно же, устремился в Камерный театр: любопытство меня раздирало. Покровский отнесся к моим посещениям, мягко говоря, прохладно.
— Лучше напишите еще одну оперу, — сурово сказал он, увидев меня в курилке перед началом репетиции.
Но я ничего не мог с собой поделать. Меня так и тянуло в этот подвал на Соколе.
В этом театре мне нравилось все. И крошечный вестибюль. И вешалка, которая мала и неудобна. И колокольчик, которым кто-то из актеров, бегая между зрителями, зазывал на представление. И тесные артистические, и маленькая кладовка, в которой по стенам были развешаны парики. Среди них в один прекрасный день появится и парик Прасковьи Петровны. И совсем не парадная лестница, которая не поднималась, а опускалась в зал. Здесь все было наоборот. И спектакли были не как в обычной опере — просто захватывающие.
Часто после репетиции я оставался в театре и пересмотрел весь репертуар. Перед каждым спектаклем я пытался отгадать головоломку: ну что же, что еще можно придумать с этой крошечной сценой, с этим зальчиком-подвалом на двести мест? И каждый раз не переставал удивляться, как виртуозно Покровский использовал нищету своего театра в его же благо. Вот уж действительно «опера нищих» — был такой жанр в XVII веке. Оркестр то оказывался на сцене, то где-то за занавеской в глубине сцены, то почти что в зрительном зале. Сценой же становился весь зрительный зал. Я помню — но это было позже, — как потряс меня «Дон Жуан» Моцарта, когда зрительские кресла расставили по диагонали, а весь пол устлали какой-то совершенно черной материей.
Любопытство продолжало раздирать меня, я ждал, не мог дождаться начала сценических репетиций «Калиостро». Как Покровский оживит портрет Прасковьи Петровны? Я прямо уподобился герою своей же оперы Алексею, влюбленному в портрет. Что он придумает для квартета генералов — тоже оживающих портретов вояк прошлого? Одно дело, когда я это все воображал в своей театральной «коробочке» на письменном столе, но как это будет на сцене? Покровский решил все очень просто. Весь спектакль идет в одной декорации, довольно простой, но невероятно выразительной. В центре — портрет Прасковьи Петровны, по бокам — по два портрета генералов. На сцене — клавесин, который обыгрывается по ходу действия, какие-то шкафы, в которых стоит посуда, часть из нее, как мне помнится, принесли из дома актеры. Как всегда в Камерном, режиссерская концепция спектакля так тесно связана с решением художника-сценографа, что одно трудно отделить от другого.
Покровский оказался моим союзником во всех смыслах. Он не принадлежит к тому разряду режиссеров, которым обязательно нужно перекроить партитуру. Конечно, он лишен раболепия по отношению к нотам. Но если он берется за постановку, то принимает концепцию композитора. Я много раз слышал от него, что зачем же ему перекраивать музыку, он должен заниматься своим делом — ее ставить. Хотя опера, написанная в кабинете, и опера, поставленная в театре, — разные вещи. Этот певец толще, а этот тоньше, этот двигается хуже, а этот — лучше, а вот этот лучше берет си-бемоль — все в работе над постановкой имеет значение. Ведь и многие композиторы-классики писали свои оперы с учетом особенностей определенных трупп, артистов. Поэтому, вероятно, разумней и композитору идти навстречу постановщикам, соглашаться на некоторые сокращения или изменения. Конечно, при условии, что режиссер понимает и принимает концепцию композитора.
Мне не пришлось ничего переделывать в «Калиостро», чтобы подогнать его под труппу Камерного театра. Спектакль был словно создан для него. Единственно, что я сделал — это усложнил партию Прасковьи Петровны по просьбе Маши Лемешевой. Дело в том, что партия стилизована под XVIII век, она и так была непростой, но Маша захотела еще ее усложнить и «разукрасить» разными виртуозными вокальными штучками. И справлялась она с ними с поразительным изяществом и легкостью.
В «Кто ты?», чтобы преодолеть условность оперы, я вставлял разговорные диалоги. Но уже тогда понял, что это все-таки не очень хорошо в опере. Появляется какой-то небольшой душок оперетты. Швов — переходов от музыки к речитативу и разговорному диалогу — не должно быть. Именно поэтому в «Калиостро» я широко пользовался речитативами-secco, то есть речитативами под клавесин. Хотя и сохранил в очень небольшом количестве разговорные диалоги и в «Калиостро». Не знаю, был ли я до конца прав. Все-таки в опере все должно пропеваться. К тому же я заметил странную особенность. Все драматические актеры стремятся петь, а оперные певцы ужасно любят говорить. Как правило, и то и другое получается плохо. И, кстати, даже в Камерном, когда мы репетировали, это получалось хуже всего. Самое смешное — я пытаюсь объяснить актерам, чего от них хочу, и, как мне кажется, объясняю внятно — они не понимают. Или же не могут сделать то, чего я добиваюсь. Появляется на репетиции Покровский. Говорит совсем про другое. И они тут же все понимают и делают именно то, что нужно. Режиссер все-таки отдельная профессия.
Кстати, никогда не слышал, чтобы Покровский повышал голос, кричал, обижал. Но авторитет его был абсолютным. Его обожали. И боялись. Каким-то шестым чувством ощущали его приближение. И звали-то его там «дед», за глаза, конечно. Уверен, что он знает об этом. На репетициях, на премьере «дед» садился на одно и то же место. Всегда. По тому, как он потирал свой выдающийся нос, уже чуяли: нравится — не нравится, доволен — не доволен. Кстати, никогда не боялись спросить, попросить помочь: вот здесь не получается, что нужно делать, как вжиться в роль, как что-то почувствовать, — он всегда чутко относился к таким вещам.
Насколько я помню, в Камерном не было никаких интриг, так хорошо знакомых нам по другим труппам. Вот что было — так это безумная ревность к Большому театру. Ревновали Покровского. К Большому относились как к неизбежному злу. И не знаю случая, чтобы кто-то перебежал из Камерного в Большой. Камерный — было действительно детище Покровского. Он и начинался как фронда по отношению к Большому. А потом здесь можно было экспериментировать. Например, такому театру, как Большой, то есть традиционному барочному театру, противопоказана современная опера. Вернее, опера на современный сюжет. Я помню, как не очень естественно воспринималась «Не только любовь» на сцене Большого. И она же была прекрасна в Камерном. В камерной опере возможно все. Например, микробиолог, поющий арию о бактериях, — это просто смешно на «большой» сцене. Или председатель колхоза, который докладывает об уборке картофеля. Он комичен, хотя проблема важна: картофель едят все. Впрочем, в искусстве догмы нелепы. И тот же Покровский одинаково естественно чувствует себя и в Камерном, и в Большом. Когда его в очередной раз призвали спасать Большой, я, честно говоря, удивился, что он мог туда вернуться. Мне это было непонятно. Но он тогда сказал: