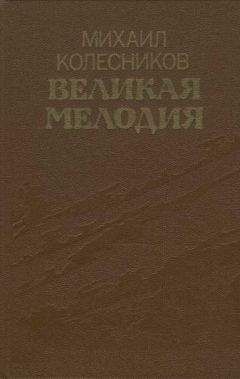— Оставь, — сказала Мария. — Все ниши заняты классиками. Обойдемся. Собственно, что нам делать в «Аду искусства»? Мне просто хотелось передвинуться немного по координате времени вперед, взглянуть на нашу жизнь аб инкунабулис.
Я на минуту задумался. Наконец решился.
— «Врата ада» устроены не так просто, как кажется. Идем!
— Куда?
— С той стороны я приметил маленькую железную дверь. Знаю, как ее открыть…
— Пробраться в «Ад искусства» с черного хода? С помощью отмычки?
— Та дверь никакого отношения к «Аду искусства», по сути, не имеет… Там начинается координата времени… Дорога в будущее. Ведь искусство тоже дорога в будущее.
Она посмотрела на меня с недоверием.
— А мы сможем вернуться обратно?
— Вряд ли. Из будущего и из прошлого еще никто не вернулся. Но ведь это будущее! То самое… Мы немного опередим свое время. Ну хотя бы на полсотни лет. Далеко забираться не стоит. Разумеется, до двухтысячного можем дотянуть и так: нам будет всего лет по восемьдесят!
— Ну нет уж. Хочу сейчас…
— Решено…
Мы обошли «Врата» с северной стороны. «Врата» оказались полыми, своеобразным помещением, внутри которого, по всей видимости, хранилось какое-нибудь музейное имущество. Мы увидели железную дверцу с замком — круглая замочная скважина. Над фиолетово-медной дверцей находилось пыльное оконце с треснувшим стеклом. В тылу «Врат» было неуютно, очень уж пустынно. По всей видимости, сюда давно никто не заглядывал. Больше того: дверца оказалась незапертой: стоило притронуться к ней, как она звякнула и открылась. Мы заглянули внутрь: чернота… Но особая: будто откуда-то тянуло ветерком — пронзительным, чистым и холодным…
— Ты как дама — первая!
— Охотно уступаю дорогу. Только не попади ногой мимо координаты времени.
— Не беспокойся. Лишь бы не вляпаться во что-нибудь французское…
Вот уже вторую неделю жили мы в храме Творчества Ундур-гэгэна. Храм примостился на высокой скале, с трех сторон его заслонили высокие деревья, и только на юг открывался широкий обзор. Там, за отрогами Хангая, начиналась Гоби, превращенная с некоторых пор в гигантский заповедник.
Мы были молоды, полны сил, а совсем недавно к нам пришла слава. Это случилось после того, как мы с помощью наших монгольских друзей из Улан-баторского университета нашли в горах Шивэт, в развалинах древнего дацана, еще одну бронзовую статую богини Тары работы Дзанабадзара. Внутри статуи обнаружили сверток — полное жизнеописание той, которая была возлюбленной и помощницей великого ваятеля. Жизнеописание, возможно, составил сам Дзанабадзар. Было названо ее имя, имя ее отца. Жизнеописание заканчивалось необычно, стихами, которые якобы начертала на стене Паганского храма некая бирманка Амона, жившая в пятнадцатом веке:
Я желаю покинуть это тело, угнетенное бесконечными
страданиями:
страданием рождения,
страданием старости и смерти,
страданием разлуки с теми, кого мы любим,
страданием жизни с теми, кого мы не любим,
страданием желания иметь что-либо и
невозможности это иметь…
Не исключено, стихи выражали настроение самого Дзанабадзара, потерявшего возлюбленную.
Сенсация века! Такой сенсацией в прошлом столетии было разве что открытие ученым Козловым и его помощниками Симуковым и Кондратьевым гуннских могил. Нам пришлось бежать и от докучливых корреспондентов, и от друзей. Тайно вернулись в храм Творчества Дубхан и поселились здесь в уцелевшей каморке. На наше счастье, разыгрался свирепый весенний шурган, который отгородил нас от всего живого мира. Ветер приносил из Гоби желто-коричневые тучи пыли, отроги Хангая гудели от яростных ударов разбушевавшейся стихии. Древние стены Дубхана глухо ухали, сотрясались.
А нам было хорошо. Мне недавно исполнилось двадцать пять, Марии было и того меньше. Мы еще только начинали, и вся жизнь лежала впереди. Несмотря на наше открытие и успех, мы еще только нащупывали дорогу: чему посвятить себя?.. Профессии, связанные с электроникой, робототехникой, атомной энергетикой и космонавтикой, не находили в нас отклика. Мы больше тяготели к искусству, литературе, к психологии художественного творчества, к законам символической формы сознания, к психологической реконструкции и неформализуемым процессам. Мы с Марией как бы выбивались из общей картины, когда шло повальное увлечение проблемами математического способа мышления, когда выделяется главное и беспощадно исключается малозначащее.
Спальные мешки, импровизированный стол из камней и чемоданов, зажженные стеариновые свечи… Нас это вполне устраивало.
Как сладостно гудел ураган за стенами нашего убежища! Пищу готовили на костерке. Звонкий ключик бил прямо из скалы. Читали, спорили, валялись просто так.
Я только что закончил «Этюды о творчестве», и Мария взяла на себя роль рецензента. Ее суждений я всегда немного побаивался: в оценках отличалась категоричностью, перед которой отступала даже логика.
В подрагивающем желтом пламени стеариновой свечи пространство сужалось до небольшого мерцающего круга, который окаймлял склоненную голову Марии. Я видел нежный овал ее лица, сдвинутые тонкие брови, волнистые волосы, закушенную губу. Иногда она отрывалась от рукописи, бросала на меня огненный взгляд и снова принималась за чтение.
Наконец она собрала страницы в стопку и, сверкая огромными глазами, сказала:
— Мне очень хотелось бы пожить в то героическое время! Будто оставила там что-то самое главное, самое дорогое. У тебя такого не случается? — Она посмотрела серьезно, очень пристально.
— Тебе хотелось бы пожить там? — спросил я ласково.
— Если с тобой, то — да…
…Ураган все набирал силу. Гул превратился в резкий свист. Где-то за горами Шивэт были светлые города, спокойная размеренная жизнь с большими мечтами и надеждами. Люди жили настоящим и будущим, прогностический ум, вооруженный электронно-вычислительной техникой, завоевывал все новые пространства и сферы, посылал корабли за пределы Солнечной системы. У нас на столе стояла бронзовая Тара, копия той, которую мы нашли в древнем дацане. Богиня благожелательно улыбалась. Но ее улыбка была улыбкой копии, а не оригинала — смоделированная кибернетическим скульптором улыбка. От улыбки подлинной Тары было утеряно что-то самое важное — ее дух!.. И странное дело: эту копию видели многие, и все принимали ее за оригинал… Пусть так. Но что, собственно, от того изменится? — размышлял я. И все же испытывал непонятную тревогу.
…Мы сидели, тесно прижавшись друг к другу, нам было тепло и уютно, все тревоги постепенно растворились в музыке урагана. Чей-то очень, очень древний, едва внятный голос прошамкал из темного угла: